Статья представляет собой ряд разрозненных наблюдений: о том, как роман «Воскресшие боги» Мережковского является кладезем деталей для «Мастера и Маргариты», о том, как черепаха Тортила цитирует Достоевского, и о том, как в Одессе в 1918 году пытались бороться с тогдашней чумой.
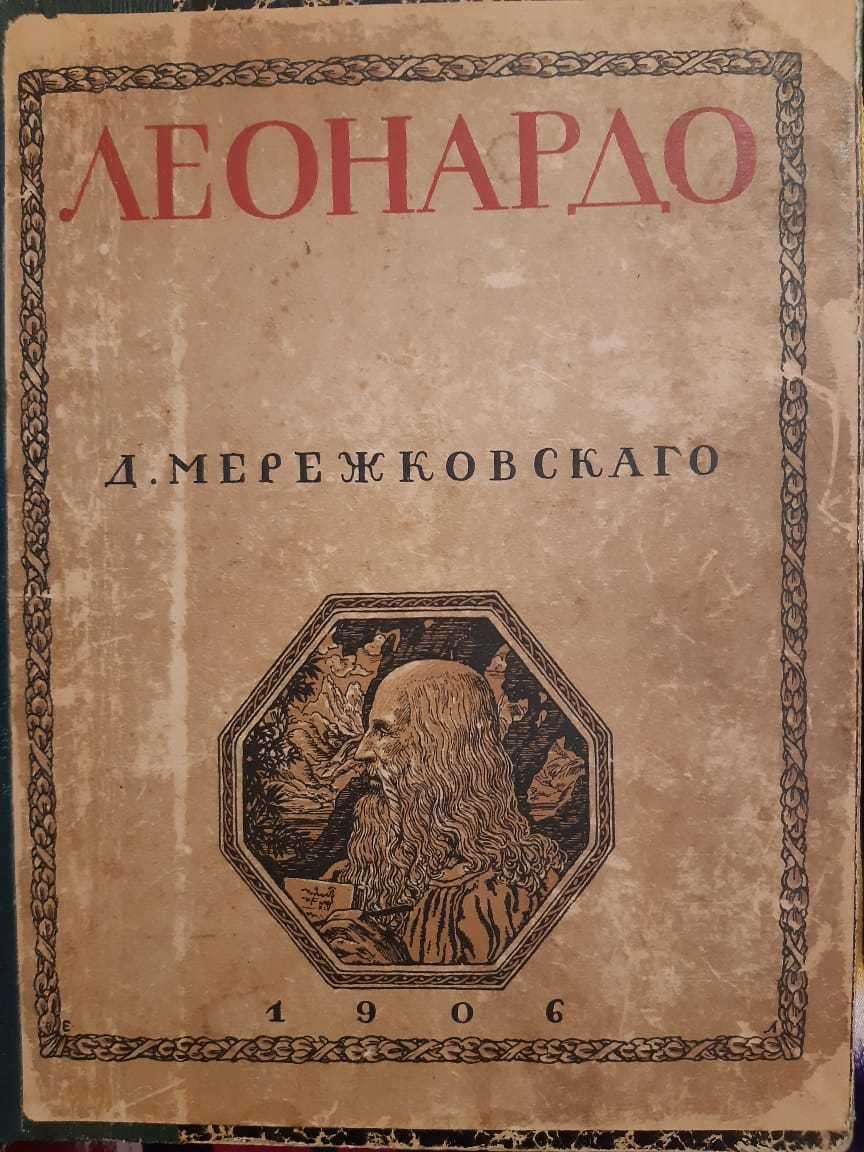
На древнеримский лад. Есть «открытие», которое делает каждый, кто только открывает второй том трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи»): и жирный зеленый крем, и полеты на метлах и боровах, и ужасно-прекрасный Люцифер – вся эта оккультная бутафория булгаковского романа взята отсюда.
Но кто, охотясь за булгаковскими претекстами, замечал в том же романе такую, например, сцену? Прощаясь с Леонардо у рва укрепленного тем миланского замка, герцог Лодовико Сфорца Моро приобщается к его будущей вечной славе: «Пусть люди говорят, что угодно, – а в будущих веках, кто назовет Леонардо, тот и герцога Моро помянет добром!»[1] Эта фраза удивительно похожа на другое пророчество: «– Мы теперь будем всегда вместе, – говорил ему во сне оборванный философ-бродяга <…>. – Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня, – сейчас же помянут и тебя!» При всем смысловом различии этих «поминаний», будет ли такой уж дерзостью предположить, что для Булгакова во второй половине двадцатых именно Мережковский служил литературным камертоном?
При чтении вводной сцены с римским прокуратором у Булгакова мне вспоминается другая фраза, – причем тоже «из римской жизни», тоже про воина, – и тоже из трилогии Мережковского, из первого его романа «Юлиан Отступник» (1895):
В пустой половине, отделенной занавеской, на единственном ложе, узеньком и продранном, за столом с оловянным кратером и кубками вина [тут, перед глаголом, цезура – читатель переводит дух] возлежал римский военный трибун шестнадцатого легиона девятой когорты Марк Скудило[2].
Сходную пропорцию начальных и конечных колонов, ту же последовательную расстановку обстоятельств (только у Булгакова они все разные), то же оформление цезуры перед сказуемым и тот же основной рисунок группы подлежащего мы находим в козырной фразе «Мастера и Маргариты»:
В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана [уф!] в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.
Конечно, у Булгакова получилось лучше: у него нет монотонной однородности первого и второго обстоятельства, что позволяет обойтись без запятых, и нет их одномерности – во втором колоне у него три слова, равные по длине четырем в первом, вместо двух колонов по четыре слова у Мережковского, – что и создает волшебный эффект. Вместе с тем, оба автора в центральные длинные (пятиударные) колоны вмещают обстоятельства времени и места (Мережковский перегружает) и, замедляясь на титуле, выруливают на ударный финал – имя.
Некоторые критики внедряли в сознание читателя мысль, что Мережковский – плохой писатель. Такой точки зрения придерживался Волынский, у которого был конфликт с Мережковским в середине 1890-х гг., а позднее Борис Эйхенбаум – в юные годы ученик и отчасти последователь Волынского. В двадцатые годы уже никому в советской России не пришло бы в голову заступиться за эмигранта Мережковского. Не будем, однако, забывать, что именно он первый попробовал применить к русской исторической прозе флоберовское реалистическое письмо в духе «Саламбо», что именно он просветлил русский исторический роман чеховской легкостью и смягчил чеховским субъективизмом – вспомним его прозвище «золотое перо»! Почему бы в процессе модной тогда в молодом поколении «литучебы» ему бы и не стать для Булгакова образцом – таким, каким для Фадеева оказался Толстой, а для Островского – Серафимович? А Булгаков сам как бы высветлил и разгрузил своего литературного «родителя».
Коротенькие мысли и долгая память. Черепаха Тортила называет Буратино деревянным дурачком с коротенькими мыслями. Так отозвался о компании своего сына-подпольщика Степан Трофимович Верховенский в гл. 3 «Бесов»: «люди с коротенькими мыслями». Алексей Толстой свой «маленький роман для детей и взрослых» — то есть, «Золотой ключик» — писал в 1935 г., но вполне вероятно, что тут дал себя знать более актуальный для его литературной юности контекст этого классического словоупотребления. Наверняка он помнил рецензию символистского критика Георгия Чулкова, тогда своего ближайшего друга, на знаменитую горьковскую повесть «Исповедь» (1909) – о русской народной религии. Чулков в ней хвалит Горького нового, но не забывает и попрекнуть его Горьким старым:
<…> Когда прислушиваешься к этим внятным и живым словам, как будто видишь человека, бежавшего из тюрьмы: около трёх лет (боюсь перепутать сроки) Максим Горький сидел за тюремной решёткой коротеньких мыслей о своём бутафорском безличном человеке. Теперь, слава Богу, он вновь полюбил землю <…>[3].
«Новыми» на 1909 г., когда вышла «Исповедь», были религиозные искания Горького, отраженные в этой повести – а именно, знаменитое «богостроительство», близкое самому Чулкову. Зато о горьковской предыдущей, социал-демократической фазе Чулков пишет без всякого сожаления — как о сидении «за решеткой коротеньких мыслей». (Именно они-то и воплотились тремя годами ранее в горьковской повести «Мать» (1906), «очень своевременной книге», по выражению Ленина.
В начале 1910-х гг. Чулков крепко сдружился с Толстым. Как раз под воздействием Чулкова Алексей Толстой написал свою пьесу «День Ряполовского» (1912), о помещике-анархисте, которого перед смертью посещает религиозное озарение в духе народности и соборности. В 1917 г. оба они сотрудничали в либеральном «Народоправстве». О своем знакомстве с ним сам Чулков подробно рассказал в своих мемуарах, вышедших в 1930 г.
В 1935 г., когда писался «Золотой ключик», Толстой как никогда раньше сблизился с Горьким, недавно вернувшимся в Союз: его невероятно занимала фигура «пролетарского писателя». Мы знаем, что к творчеству Горького он относился вообще скептически, а уж тем более к именно той его фазе, которая теперь, в середине тридцатых, вдруг оказалась канонизированной. Должно быть, отсюда и всплыла эта крохотная озорная реминисценция из Достоевского с рикошетом по Горькому.
Таки я жил тогда в Одессе… Население Одессы давным-давно сменилось, но с уникальным языком этого филологического заповедника пока все в порядке. Здесь даже издавалась одно время газета под названием «Или?» Прогулки по тенистым улицам, как правило, увенчиваются находками вроде: Поликлиника мужских заболеваний «Андромед», что дает мыслям толчок: действительно, почему бы и не Персей и Андромед? Так сказать, современное прочтение мифа…
Общение с местным населением также свидетельствует: оснований для беспокойства пока нет. Шофер такси так откомментировал поведение соседнего водителя в потоке машин: «Подумаешь, тоже мне — директор землетрясения!»
Исторические разыскания в области одесской периодики показали: так было всегда. Например, в газете «Одесский листок» С.Ф. Штерна в ноябре 1918 г. есть статья, обращенная к пробольшевистским одесским студентам, которые бунтовали и не давали учиться другим: статья называлась «Не угасайте огня!» – то есть, священного факела университетских традиций. Автор, между прочим, отнюдь не бабелевский персонаж, как можно было бы подумать, – а известный украинский националист, профессор Линниченко. Огня, кстати, с тех пор «угасали» очень эффективно: в великолепной Публичной библиотеке Одессы, где когда-то директорствовал Александр де Рибас, советская лукавая система двойных каталогов создала непробиваемую стену вокруг всякой «неправильной» литературы, так что не только получить этот самый «Одесский листок» за крамольный год, но даже узнать о его наличии было невозможно[4].
Но упорство вознаграждается, и мне все-таки выдали эту драгоценную тоненькую папку с хрупкой, ломкой бумагой! (Потому что там тогда еще не наступил – и, надеюсь, не наступит — тот этап зажима, который уже наступил в Ленинке, где вам выдадут нечитаемый микрофильм, и вы ознакомитесь с заголовками, а подшивка опять будет навеки упрятана под замок). И я читала, и щурилась на мелкий шрифт, и переписывала от руки, и вдруг увидела следующую крохотную заметку:
В черные годины свирепствования холерной или чумной эпидемии установился обычай совершать т.н. черную свадьбу, т.е. совершать венчание какой-либо бедной четы на кладбище.
Вчера (т.е. 1 окт.) на первом (старом) евр. кладбище состоялось венчание четы Вайнфус – Блинская. Обряд венчания совершил дух.[овный] раввин И. Гальперин[5].
Такая свадьба, будучи магической компенсацией малого ущерба – бедности вступающих в брак, как бы создавала противоток добра, способный одолеть угрозу надвигающегося великого горя – мора, глада, труса. Здесь же речь явно шла об отчаянном желании одесских евреев не допустить беды, уже ими испытанной. Одесса была освобождена от «первых» большевиков добровольческими войсками летом 1918-го. Черная свадьба, к которой принято было прибегать как к крайнему средству, видимо, понадобилась в октябре 1918-го, чтобы снова не оказаться под советской властью. И это подействовало! Эффект, однако, был недолог: Одесса пала уже в апреле 1919 года. Правда, осенью 1919 г., большевиков оттеснили опять – но всего на какие-то полгода. С черной оспой или какой-нибудь бубонной чумой сладить было проще.
Но все претерпевший город все-таки уцелел, мощеный синей вулканической лавой, которую возили из Неаполя на обратных рейсах вместо балласта, и заросший японскими акациями-сефорами. Нет, хотелось бы вернуться в Одессу! Там я сама своими ушами слышала, затаившись в углу лавочки, не дыша, боясь спугнуть, как одна продавщица сказала другой: «Но вернемся к нашим баранам моей туманной юности».
Новое литературное обозрение, 2005, №3, номер в честь М.Л.Гаспарова.
______________________________________________________________________________________________________
[1] Мережковский Д.С. Христос и Антихрист. II. Воскресшие боги. (Леонардо да Винчи).// Собрание сочинений в четырех томах. Т. I. М. 1990. С. 588.
[2] Его же. Христос и Антихрист. I. Юлиан Отступник // Указ.соч. С. 28.
[3] Чулков Г. Правда Максима Горького. Покрывало Изиды. Критические очерки. М., 1909. С. 15.
[4] Тут отражена ситуация 2003 года.
[5] Одесский Листок. Среда 2 октября (19 сентября) 1918 г. С.4.
