Влияние символистского теоретика Вячеслава Иванова на начинающего Алексея Толстого обозначилось уже в 1909 году, а достигло апогея в революционные годы, когда Толстой популяризует идеи Иванова в своей анти-большевистской публицистике. Но и Иванов использовал образы из прозы Толстого для одного из своих стихотворений.
Статья выходит в очередном Ивановском сборнике в Москве.
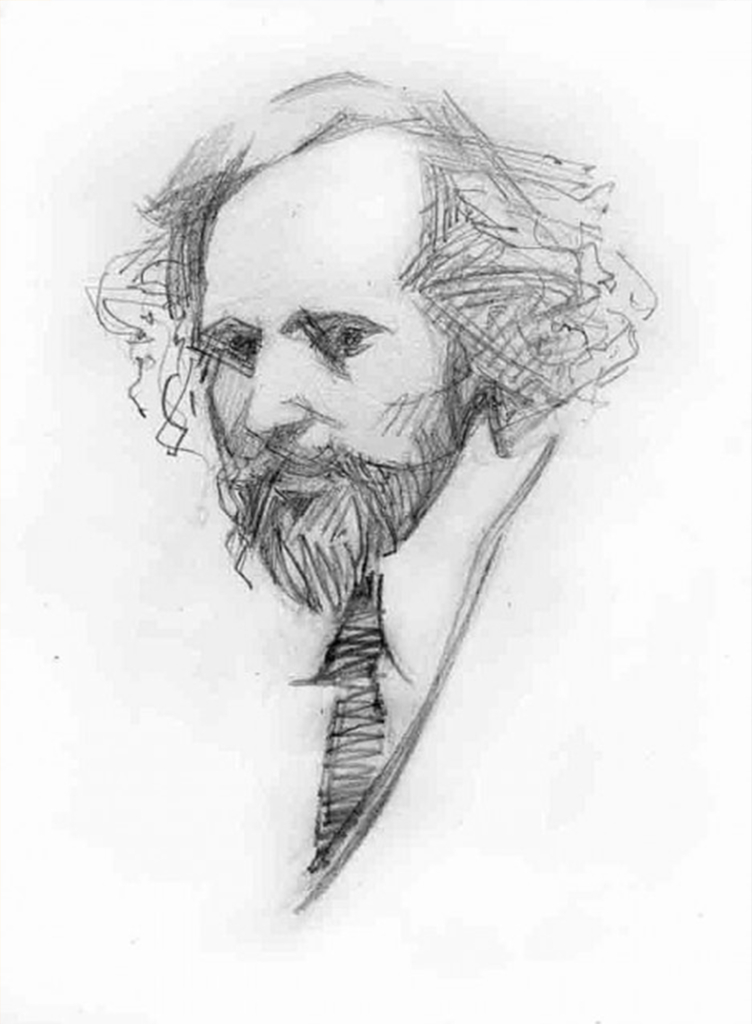
Как выясняется, влияние идей Вячеслава Иванова сказывалось в причудливых формах и в неожиданных сегментах литературного процесса. Для меня было неожиданностью найти в нерепубликованной журналистике Алексея Николаевича Толстого 1918 -1919 годов ключевые идейные комплексы Вячеслава Иванова. Да еще в ранних двадцатых в ряде своих берлинских текстов Толстой вдохновлялся ивановской идеей «нисхождения»[1]. Если мы внимательно посмотрим на отношения символистского мэтра и начинающего автора, мы увидим еще целый ряд интересных пересечений.
В 1909 Толстой участвовал в главном литературном проекте того времени – журнале «Аполлон», объединившим Иванова, Волошина, Гумилева, Кузмина и литературную молодежь. Именно в «Аполлоне» в том же году прошел его дебют как прозаика. Волошин опасливо ревновал своего питомца к Иванову[2]: «Только бы ему не застрять в Петербурге. Там немного страшно за него. Его там затеоретизируют. А ему это никак нельзя. Его художественность в первобытной цельности, в насыщенной бессознательности. В «Аполлоне» его уже приспособляют к писанию критических статей, а Вячеслав его приобщает к мифотворцам. Но он довольно защищен» — писал он в 1910 г. А.В.Гольштейн. Опасения были напрасны — Толстой написал для «Аполлона» всего одну рецензию и формально к «мифотворцам» не пристал – хотя, разумеется, следы увлечения Городецкого славянской архаикой налицо в первой книге Толстого – «За синими реками» (1911). Вместе с Гумилевым он организовал Общество Ревнителей художественного слова, с Вячеславом Ивановым в качестве мэтра[3]. Тогда же Толстой увлекся театральными экспериментами Всеволода Мейерхольда в «Доме Интермедий» и писал для него пьесы[4]. Затем он вместе с друзьями создал литературное кабаре – знаменитую «Бродячую собаку». Роман Тименчик считал, что «Все бурлескное речетворчество «Собаки» целиком было ответом с подземного столика на голоса, изливавшиеся с башен ….»[5] Вскоре Алексей Толстой прочел в «Собаке» стилизованную в архаическом духе эпиграмму на Иванова: повод — случайная спичка, поджегшая ивановскую бородку, впрочем, без всяких последствий:
Огнем палил сердца доныне
И строя огнестолпный храм,
Был Саламандрою Челлини
И не сгорал ни разу сам.
Но только отблеск этот медный
Чела и лика впалых щек
Был знак, таинственный и вредный,
Тому, кто тайно души жег.
Но как Самсон погиб от власа—
Твоя погибель крылась где?
Вокруг полуночного часа
В самосгоревшей бороде.[6]
В 1911 Толстой попадает в неприятную историю — конфликт с Федором Сологубом и Анастасией Чеботаревской, возникший по легкомыслию Толстого и его жены Софьи Дымшиц[7]. Они одалживают у Сологуба для новогоднего маскарада пару обезьяньих шкур, рядятся, но портят или допускают их порчу. Существует несколько версий, из которых наиболее убедительной кажется версия Софьи: ряженьем в тот вечер распоряжался пришедший к ним в гости Александр Бенуа – Софьин учитель по школе Званцевой и коллега Толстого по «Аполлону». Он не знает, что шкуры чужие, и разрезает их, чтоб хватило всем. Толстым не приходит в голову – нам кажется, скорее нехватает духу — остановить его вдохновенную импровизацию, и они наутро возвращают шкуры Сологубам разрезанными и сколотыми булавками[8]. Чеботаревская в ярости пишет письмо Толстому, оскорбляя его жену намеком на незаконность их брака. Толстой отвечает оскорблениями в адрес Сологуба. Возникает «обезьянье дело», или «дело об обезьяньих хвостах», которое рассматривает писательский суд чести. Одним из судей был Вячеслав Иванов, вынесший Толстому суровый приговор. Правда, у нас сложилось впечатление, что Иванов сочувствовал неосторожному Толстому – судя по тому, как гневно он оценивал провокационную роль Ремизова в этой истории[9]. Сам Толстой отказывался принимать эту идиотскую историю всерьез — в отличие от большинства как участников, так и позднейших исследователей — но принес свои формальные извинения кому требовалось. Раздутая садистом Сологубом и антисемиткой Чеботаревской, история с обезьяньими хвостами не смогла разрушить семью Толстых, наоборот – они ожидали прибавления семейства, и Толстой обсуждал этот сюжет с Ивановым: они с Софьей действительно официально не были женаты[10] (поэтому так ужасно было грязное оскорбление Чеботаревской), и Иванов рекомендовал им ехать рожать в либеральный Париж, где ребенка зарегистрируют без лишних вопросов, что они и сделали. Иванов и сам в это время справлялся с тяжелой матримониальной ситуацией и тоже вынужден был на некоторое время уехать, а по возвращении в 1912 году перебрался в Москву. В том же году туда переехал и Толстой с женой.
В том же 1912 году Толстой публикует роман «Хромой барин», развивая в нем тему жертвы – там даже есть теория и типология. Эпиграф к этому роману взят из книги «Кормчие звезды» Вяч. Иванова – это стихотворение «Возврат» (1903), где говорится об облаке, на закатном солнце розовеющем и краснеющем, то есть как бы принесенном в жертву:
С престола ледяных громад,
Родных высот изгнанник вольный,
Спрядает светлый водопад
В теснинный мрак и плен юдольный.
А облако, назад — горе —
Путеводимое любовью,
Как агнец, жертвенною кровью
На снежном рдеет алтаре[11].
Роману в первой версии был предпослан еще один эпиграф, из другого стихотворения Вяч. Иванова «Язвы гвоздиные» (1906)[12]: «Сатана свои крылья раскрыл, сатана, Над тобою[13], родная страна». При переиздании «Хромого барина» в 1914 году второй эпиграф был убран – видимо, в связи с военным временем, требовавшим забыть о внутренних распрях.
1912 год был также годом обострения конфликта Толстого с Петербургом, только что пережившего историю с Сологубом:. теперь возник новый конфликт. Я попыталась реконструировать его с помощью дневника Кузмина[14]. В 1912 г. Толстой приходит к мысли о дурном влиянии Петербурга на свою жизнь и пишет две неопубликованных анти-петербургских вещи: во-первых, это повесть «Слякоть», где описывается растлевающее влияние петербургских чиновничьих кругов, предающихся распутству и альтернативной любви. Нам кажется, что по незнакомству с чиновничьими кругами Толстой замаскировал под нападки на чиновников свои возражения против кузминского круга.
Во-вторых, он создает сатирическую пьесу о литературных кругах Петербурга: это комедия «Спасательный круг эстетизму», не публиковавшаяся ранее и впервые подробно описанная и опубликованная мною[15]. Толстой задумал написать ее совместно с М.А.Волошиным: 18 мая 1912 года Волошин написал К.В. Кандаурову: «В Коктебель на все лето приехали Толстые и на зиму переселяются в Москву. Я очень рад этому. Мы с ним пишем вместе это лето большую “комедию из современной жизни (литературной)”»[16]. Волошин по причинам, которые здесь было бы излишне описывать, разделял новое недружелюбие Толстого к петербургскому литературному окружению и приветствовал его переезд в Москву. И действительно, в архиве Волошина имеются наброски пьесы, персонажами которой являются «критик-оккультист» (безо всякого сомнения, имелся в виду Иванов, к которого Волошин по известным причинам недолюбливал), «редактор-купец», «поэт последней формации», «ищущая девица», «поэтесса»,[17] относящиеся к весне 1912 года. Это и есть основа списка dramatis personae пьесы Толстого. Итак, 18 мая Волошин пишет о совместной работе на все лето. В.Т. Куприянов переиздал в 1974 году анонимную заметку из «Феодосийской газеты» за 29 мая 1912 года: «Новая пьеса»: «Писатель граф Ал. Н. Толстой, проживающий в настоящее время в Коктебеле, пишет по специальному предложению режиссера, руководителя выдающегося драматического театра, первое свое драматическое произведение»[18]. Принято считать, что речь идет о драме «День Ряполовского». Нам кажется иначе – Толстой скорее всего обратился к совместному с Волошиным замыслу. Пьеса «День Ряполовского», вероятно, была написана позже, летом того же года.
Итак, 29 мая Толстой рапортует газете о своей первой пьесе по заказу театра – он в Коктебеле 10 дней. Очевидно, первый этап, когда пьеса писалась совместно, вскоре исчерпался: ведь на пьесе стоит только имя Толстого. Волошинские наметки оделись плотью – там действительно есть поэт современной формации, блокоподобный Павлов, влюбленный в проститутку, честолюбивая поэтесса Грацианова, диктующая рецензии на себя критикам, стареющий критик-оккультист Маслов, похожий на Вячеслава Иванова, редактор-купец Перчатников — комбинация Рябушинского и Маковского, с именем, как у известного декадента Рукавишникова, а ищущая девица преобразилась в энтузиастку эстетизма Ираиду Лопухову, списанную с Дымшиц. В центре пьесы молодая пара — измученный холодной и бессердечной женой-поэтессой юный художник Ситников, провербиальный ревнивец, мечущийся по Петербургу в поисках своей вечно убегающей с другими жены. По пьесе рассеяны аллюзии на тексты, центральные для петербургской литературной жизни (по версии жены Ситникова, муж бьет ее хлыстом), а также на реальные обстоятельства жизни аполлоновского кружка — Ситников, бегающий по сцене в охотничьих сапогах, размахивающий пистолетами, раздающий вызовы на дуэль, явно ориентирован на Николая Гумилева. В конце пьесы отчаявшись, этот персонаж пускает себе пулю в лоб. (О парижской попытке самоубийства Гумилева осенью 1907 года знали немногие, но Толстой был в их числе. Гумилев сам рассказал ему об этом, когда они сдружились весной 1908 года). Психологический рисунок Ситникова являет наивного и чувствительного юношу. По пьесе он – художник, неохотный последователь кубизма, во имя своей бесчеловечной догмы подавляющий простые человеческие чувства. Он изо всех сил стремится быть взрослым, агрессивным, жестоким и поэтому переигрывает. Вспомним, что имя «Ситников» принадлежит в романе «Отцы и дети» слабому и тоже переигрывающему имитатору новых позиций и взглядов. Он слишком ригидный, чересчур негнущийся — качества, мемуаристами приписываемые Гумилеву.
Итак, за несложными конструктами Толстого встают заведомо узнаваемые его товарищи по молодой редакции «Аполлона» и по «Цеху». С Гумилевым, Городецким, Потемкиным, Пястом Толстой участвовал в занятиях «Академии стиха», в которой группа молодых поэтов училась у Вячеслава Иванова. Между учениками и мэтром нарастало напряжение, перешедшее в конце концов в бунт против учителя. В пьесе Толстого передано раздражение и недовольство молодежи тиранической властью теоретика Маслова. Подробно моделированы сложные перипетии его отношений с издателем журнала, вокруг которого развертывается действие. Несомненно, за этим стоит конфликт между Ивановым и редакцией журнала «Аполлон», откуда поэт после первых публикаций был вытеснен. Особенно конфликтные отношения складывались с Ивановым у Гумилева. Ахматова, судя по записям Лукницкого, вспоминала о «явной и уже не скрываемой враждебности» Иванова, о его попытках посеять рознь между ними, связывала эту враждебность с тем, что Иванов был отстранен от «Аполлона». Главной претензией Гумилева к Иванову было желание того всех подчинить себе, его покровительство второстепенным фигурам[19]
«Спасательный круг эстетизму» описывает реальное противостояние конца 1911 года — противостояние «Цеха» и «Академии стиха», молодой редакции «Аполлона» — и Иванова, который более чем прозрачно выведен в облике мрачного Маслова, наводящего страх гонителя эстетства и декадентства, бряцающего архаизированными формулами и призывающего к религиозному аскетизму. Требования, предъявленные Ивановым новому искусству, означали необходимость духовного поиска и самодисциплины. В смеховом ключе, выбранном Толстым, они преобразились в «аскетизм». Маслов дан в период упадка, но воскрешен жрицей любви, отчаянной и вместе сострадательной Верой Шароваровой. Аскетическая мания Маслова, которая, по усвоенным Толстым розановским правилам, вытекает из упадка мужских сил, сменяется балаганной сценой внезапной его страсти к спасительной жрице любви. Пародируются эллинистический культурный код и солнечный миф Иванова: Веру-Варвару он этимологизирует как архаическую бородатую Венеру. Новая любовь кладет конец деспотической власти Маслова над петербургской литературой. Комедия посвящена литературным нравам, наводнена литературным материалом во всех возможных видах — в виде цитат, пародий, резюме, подражаний. Местами Толстой обращается к откровенному фарсу. Вполне вероятно, что соавторы обговорили первый и третий акты, где сосредоточен пародийный литературный материал, а сражаться с драматургической машиной, придумывать завязки и т.д. пришлось одному Толстому: на это указывают его заметки на полях. Там же, где появлялись колоритные персонажи вроде проститутки Шароваровой, Толстой явно терял управление и чересчур увлекался.
«Спасательный круг эстетизму» писался как комедия, но когда дело доходило до выстрела в финале, для комедии получалось тяжеловато. Вызвал ли Толстой неудовольствие Волошина, сам ли он остался недоволен пьесой, произошло ли и то и другое — как бы то ни было, проект был похоронен, и справедливо. Пьеса написана непочтительно и разухабисто, а главное, слишком похоже: кроме уже перечисленных, там узнаются Сологуб, Кузмин, Савинков, и одному персонажу, критику, даже дана реальная фамилия Рысс — при том, что критик Петр Рысс на самом деле существовал и работал в Петербурге. Также обсуждаются реальные лица – например, Чуковский, про которого персонажи говорят, что он не любит литературы. Кроме того, имя «Вера Шароварова» прозрачно намекает на Веру Шварсалон – падчерицу Иванова, ставшую его женой.
Так что неудивительно, что этот текст никогда не всплывал — публиковать его никто бы не рискнул уже по юридическим причинам. Правда, тогдашние недостатки пьесы — погруженность в быт, портретность (даже памфлетность), насыщенность моментальной злобой дня, пародийность — для сегодняшнего читателя равняются достоинствам.
Осенью 1912 года Толстой переехал в Москву, а свою пьесу о литературном Петербурге положил в стол. Очень скоро, весной 1913 года, история с самоубийством Всеволода Князева, касающаяся того же круга, который описывал Толстой, зловеще совпала с сюжетом этой легкомысленной пьесы.
Итак, общение Толстого с Ивановым переносится в Москву. Тем временем начинается война. Толстой расходится с Софьей, едет на фронт и становится военным корреспондентом престижнейших «Русских ведомостей»; в 1914 году он начинает печатать в этой газете свои очерки с театра военных действий и вскоре становится ее постоянным автором, публикуя там и многочисленные рассказы. Корреспонденции его высоко оцениваются коллегами по литературному цеху: Аделаида Герцык пишет Волошину в Дорнах 4 (17) ноября 1914 года: «Пра посылает Вам корреспонденции Ал<ексея> Толстого. Они оч<ень> хороши. Я вышлю Вам завтра бюллетени, в кот<орых> перепечатаны все важнейшие газетные статьи (руководящие)»[20]. 2 февраля 1915 г. Волошин попросил у матери прислать ему книгу Толстого о войне[21].
В течение 1915 года Толстой со своей новой женой Наталией Крандиевской – очевидно, идя навстречу её духовным запросам – сближается с кругом Бердяевых (со многими его участниками он знаком по Коктебелю). В декабре 1914 он присутствует на вечере у Аделаиды Герцык[22] «с Бердяевым, Вяч. Ивановым, Шестовым, Гершензоном, Булгаковым»[23] и другими философами и писателями, где Аделаида Герцык зачитывает выдержки из писем к ней Волошина (о причинах войны); он также принимает участие в рождественском вечере у Бердяевых 25 декабря 1914 года; там А. Герцык читает вслух стихотворение Волошина «Левиафан» (гости находят эту вещь «интересной, верной, яркой»[24]). Новый 1915 год вся компания встречает у стариков Крандиевских. Е.О. Кириенко-Волошина сообщает в этот день сыну о том, что Толстой «часа два объяснял, что он давно уже любит Тусю [Нат. Крандиевскую]. Новый год встречаем сегодня у Крандиевских вместе с Алеханом»[25]. Второго февраля 1915 г. Крандиевская читает свои стихи на вечере поэтесс у Аделаиды Герцык.[26] 23 февраля они с Толстым опять посещают Жуковских, где лежит сломавший ногу Бердяев, и оба читают там свои стихи.[27] На Пасху Алексей Николаевич является с визитом к Вячеславу Иванову: В.Ф.Эрн сообщал Е.Д.Эрн: «Прочел вслух свой рассказ из «Рус<ских> Вед<омостей>», сидел долго, заговорился. Мы с Вячеславом его похвалили, и он был очень доволен».[28] Тогда же Толстой собирался участвовать в рукописном журнале бердяевского кружка «Бульвар и переулок». Об этом писал В.Ф.Эрн жене: «8 апреля 1915 г. <… /> Вчера у Бердяевых был вечер, многолюдный и блестящий. <…>. Гвоздем вечера оказалась читка юмористических произведений, предназначенных для нашего интимного журнала «Бульвар и Переулок». <…>. Журнал без подписчиков, — только для участников. <…> Дальше обещаны вещи: Булгакова, Балтрушайтиса, Толстого. Последний пришел вчера в 12 ч. и чтения уже не застал, но вдохновился пересказами и спросил с комико-серьезным сосанием трубки: «Вячеслав Иванович (голосом нежным), а можно мне… две вещи написать. Одну драматическую, а другую в стихах?”»[29]. Видимо, это и был момент наибольшего сближения его с Ивановым и его кружком. Правда, журнал так и не «вышел».
В конце апреля Толстой участвует в собрании у Вячеслава Иванова, посвященном организации вечера «в пользу одного нуждающегося киевского литератора» (то есть Гершензона), где были Шпет, Шестов, Гершензон.[30] В мае, судя по переписке Герцык,[31] вечер был проведен, и Толстой на нем выступал.
Итак, в последние предреволюционные годы Толстой входит в круг и, хотя бы отчасти, – и в курс идей московского религиозно-философского общества. Правда, близкой дружбы у Толстых ни с кем из этого круга не получается – над самим писателем в нем посмеиваются, да и Крандиевская не нравится там никому, в особенности сестрам Герцык, которые находят ее гораздо в меньшей степени «личностью», чем эмансипированную, независимую Софью Исааковну Дымшиц.
Умеренный национализм Толстого прекрасно вписывается в настроения московских религиозных философов: это главная тема их тогдашних споров: как раз в это время В.Ф.Эрн пишет свою лекцию «Время славянофильствует». Толстой навещает Иванова на Пасху и читает вслух свой рассказ, опубликованный в «Русских ведомостях»[32]. (Это должен быть рассказ «На горе», напечатанный 22 марта 1915 года). Умеренный национализм не мешает Толстому, как и многим другим русским писателям, в том числе Вячеславу Иванову, участвовать в благотворительном проекте в помощи еврейским военным беженцам – литературном сборнике «Щит» (1915), изданном Л.Андреевым, М.Горьким и Ф.Сологубом и дважды переиздававшемся.
Весной 1915 года Толстой побывал на Кавказе военным корреспондентом от «Русских ведомостей». Иванов впечатлился толстовской зарисовкой весеннего выхода в море из устья реки Чорох под Батуми в одном из кавказских очерков Толстого — настолько, что поставил фрагмент из этого эпизода эпиграфом к своему стихотворению «Дельфины»: (1915). Вот этот кусок у Толстого в том виде, в котором его использовал Иванов:
В снастях и реях засвистел ветер, пахнущий снегом и цветами; он с силой вылетал на свободу из тесного ущелья…. Из-под самого пароходнаго носа стали выпрыгивать проворные водяные жители — дельфины; крутым побегом они выскальзывали на воздух, опустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без всплеска.[33]
Стихотворение Иванова начинается перевернутой первой частью фразы из очерка и кончается ее второй частью, причем слова о ветре открывают и закрывают стихотворение:
Ветер, пахнущий снегом и цветами,
Налетел, засвистел в снастях и реях,
Вырываясь из узкого ущелья
На раздолье лазоревой равнины.
Как Тритон, протрубил он клич веселья,
Вздох весенний кавказского Борея,
Вам, курносые, скользкие дельфины,
Плясуны с крутогорбыми хребтами.
На гостины скликал вас, на Веснины,
Стеклоокого табуны Нерея,
С силой рвущийся в устье из ущелья
Ветер, пахнущий снегом и цветами[34].
Как видим, и показ дельфинов: «выскальзывали», «крутым побегом» (у Иванова – «скользких» «крутогорбых»), и тема выхода ветра на свободу из ущелья реки в море взяты здесь из очерка Толстого. Иванов не использовал только начало второго предложения – «Из желтоватой воды»[35]: реалистическая желтоватая вода Толстого спорила бы с ивановской символической лазурью. Здесь важно помнить, что дельфин, кроме прочих значений, и есть Аполлон, именно он в образе дельфина доставил первых жрецов на место будущего дельфийского культа.
Чуковский писал в своем мемуарном очерке о Толстом:
В 1913 году Вячеслав Иванов написал стихотворение «Дельфины», к которому взял эпиграфом отрывок из толстовских «Писем с пути». Отрывок начинается так: «В снастях и реях засвистел ветер, пахнувший снегом и цветами». Этот отрывок так полюбился Вяч. Иванову, что он целиком перенес его в свое стихотворение:
Ветер, пахнущий снегом и цветами,
Налетел, засвистел в снастях и реях… и т.д.
Черновой вариант стихотворения помечен: 13 марта 1913 г. Напечатано в «Невском альманахе», 1915[36].
Чуковский первым указал на двойную дату этого стихотворения – черновой вариант его написан весной 1913 года, но в 1915 году, видимо, прочтя в газете зарисовку с натуры Толстого, Иванов добавил эти живые черточки в отчет о весенних приготовлениях Тритона, Борея и Нерея и результат опубликовал. В следующем году стихотворение было перепечатано в альманахе «Полон: Литературный сб». Пг., 1916, с посвящением: «Гр. А. Н. Толстому».
В 1915 году Толстой вернулся к описаниям литературного Петербурга 1909–1910 годов в романе «Егор Абозов», оставшемся неоконченным: впервые он был опубликован в 1953 году в 15-ом томе Полного собрания сочинений. Кое-какие мотивы оттуда вошли и в описание Петербурга 1913 года в романе «Хождение по мукам». Уже здесь веселая сатира смешана с апокалиптическими рассуждениями, как позднее в романе о революции. Толстой пытался его издать в московском «Книгоиздательстве писателей», но издатели написали друг другу панические письма о том, что все персонажи узнаваемы, и отказались[37]. Дело ограничилось фрагментами, рассыпанными по газетам: «продвинутого» юга («Южный край» и «Одесские новости»). Дописывать роман Толстой не стал, и целиком (правда, с купюрами) он увидел свет только в послевоенном, т.н. Полном собрании сочинений в 15 томах (ПСС). На наш взгляд, вкус к продолжению «Егора Абозова» отбило у автора не только неодобрение издательства, но и публикация в 1915 году кузминских «Плавающих-путешествующих», изобразивших тот же круг петербургской эстетской интеллигенции, в центре которого также находится артистический кабачок[38].
Как и ранняя пьеса, «Егор Абозов» живописует начало журнала «Аполлон» и петербургский элитный литературно-художественный кружок: и здесь среди действующих лиц присутствует и блокоподобный поэт, и редактор-купец, и многие другие фигуры, в которых можно угадать связь с прежним замыслом. Есть здесь и персонаж, нацеленный на Вячеслава Иванова. Это Шишков — «поэт-мистик» «с мистическим лицом», чье имя само указывает в сторону прототипического варягоросского архаиста. Подобно Иванову мемуаристов, Шишков у Толстого говорит речь
«высоким голосом, который перешел затем в пронзительный:
– Конечно, во всяком начинании найдется недоброжелатель. Он постарается воздвигнуть призрак раздора в обители муз. Он бросит семена бури[39] на Пелион[40]. Дэлос![41] Священный остров. Храм Аполлона. Мы, пришельцы, возлагаем каждый на алтарь свою молитву. Не место вражде на острове Циклад. Мы не гунны, чтобы сжигать Дельфийский храм[42]. Я приветствую «Дэлос», как приветствуют форму. Довольно молчания. Мы выходим из пещер, неся свои факелы [43] (…). Теперь не демагоги, а мы[44] заговорим с народом, облеченные в царские одежды, в виссон и пурпур[45]…
Он ссорится с другим поэтом, Сливянским — держа друг друга за пиджаки, они с яростью спорят о символизме. Сливянский имитирует солидарность, но он враждебен:
– «Дэлос», – крикнул он с яростью, – конечно, я приветствую начинание!» Он несогласен с эстетской платформой Шишкова с его упором на форму: «Эстетизм – разврат умственный, нравственный, религиозный. Ни жизнь, ни смерть! Эстетизм – гниль, распад! Ни страсть, ни ненависть, ничто! Майя. Обман! Антиномично Логосу. Это дело Сатаны».
Здесь отражен конфликт, имевший место в начале организационного периода журнала «Аполлон», когда критик Аким Волынский, еще в середине 1890-х выразивший в своем журнале «Северный вестник» предпочтение аполлоническому принципу перед дионисийским началом и потому включенный в редакцию будущего журнала, вскоре потребовал, чтобы из нее убрали Вячеслава Иванова как несомненного дионисийца и оргиаста[46]. Как мы помним — война с эстетизмом была предметом первой пьесы, где против эстетизма возражал Маслов — Иванов. Здесь же наоборот, Шишков — Иванов обвинен в эстетизме, а врагом эстетизма и морализатором оказывается Сливянский – Волынский, на него нападающий. В романе красноречие Сливянского приветствуется — редактор говорит: « – Логос Логосом, а что красиво, то красиво. Ничего, пусть поговорят» [47]. В реальности Волынскому, несмотря на ораторский талант, пришлось уйти из «Аполлона» — как вскоре и Иванову[48].
В мае 1916 года Толстой выпустил благотворительную однодневную газету в помощь раненым воинам и привлек туда многих московских писателей и в том числе чуть ли не весь состав бердяевского кружка. Оа называлась: «Труд вновь даст тебе жизнь и счастье». Газета, выпущенная Об-вом «Трудовая помощь инвалидам мировой войны». Под непоср. наблюдением гр. Алексея Н. Толстого. 1916 <май>.. В газете печатались Вяч. Иванов («Сад» — «Если хочешь пройти сквозь меня…»), Н. Бердяев («Смерть и убийство на войне»), С. Булгаков («Подвиг терпенья»), И. Бунин («Песня» — «Там не светит солнце…»), В. Брюсов («Rico Franco» — испанская народная песня), М. Гершензон («Пушкин» — «Нравственное разумение Пушкина поразительно…»), Любовь Столица («Траурный марш»), А. Ремизов («Заклад» — народная сказка), М. Волошин («Я, полуднем объятый…») и др. Сам Толстой напечатал там один из своих английских очерков — «Бокс».
После октябрьского переворота литература пыталась бороться с драконовскими мерами против свободы печати. Московские писатели ответили на запрет свободной прессы в декабре 1917 года однодневной газетой – «Слову-свобода», на первой странице которой напечатаны были стихи Вяч. Иванова: «Ругаясь над старою славой».
В 1917-1918 году Иванов, Бердяев, Ремизов, Зайцев, Эренбург, Ходасевич и Толстой, как и многие другие, сотрудничали в пока немногочисленной еще свободной несоветской прессе — в еженедельнике «Народоправство», который издавал старый приятель Толстого Георгий Чулков под псевдонимом Борис Кремнев, и в газете «Луч правды»[49]. Писатели противостояли цензурному гнету и административным запретам[50].
Похоже, что в это тяжелейшее время Толстой вновь прибегает к интеллектуальному и духовному авторитету Иванова – как было в первые годы его литературного ученичества. В его журналистике революционных лет можно различить некоторые идеи и образы, почерпнутые из эссеистики Иванова. Основным текстом для него, повидимому, становится знаменитая статья Иванова из «профессорского» еженедельника «Народоправство», №14 за 30 октября 1917 года — статья «Революция и народное самоопределение». С главным тезисом ее «Революция протекает внерелигиозно и поэтому не отвечает на народные чаяния» многие спорили[51].
Все дело в том, что эту фразу Иванов наполнил вовсе не консервативным содержанием. Главными религиозными ценностями он, поразительным образом, считал именно категории, казалось бы, «светские» — народоправство, равенство, земля и единение.
В сходном духе тогда же писал Бердяев – в том же «Народоправстве» он констатировал, что революция «произвольно расковывает греховный хаос и отрицает правду закона» и губит в человеке образ и подобие Божье, а потому имеет в себе и безбожное начало. Мыслитель говорил о «правде Ветхого Завета» и заключал: путь к свободе лежит через закон[52]. Это важный вывод о религиозном смысле социальных форм, новый для радикального религиозного идеолога, ранее приветствовавшего революцию именно как «благодать», противопоставленную закону.
Иванов выявил метафизический характер основных этических понятий, лежащих в основе общественного бытия. В такой трактовке духовная революция означала бы ответ на народные чаяния, основанные на религиозных представлениях о справедливости – то есть на религиозной совести. Но Октябрьская революция взамен дала диктатуру, репрессии для целых классов и социальных и культурных групп, народный раскол, борьбу за секторальные выгоды, приведшие к озверению, разрухе и опустошению России.
Иванов вовсе не хотел возврата России в прежний мертвый сон, а несмотря ни на что, надеялся на обновление страны. Но страну захлестнула всеобщая ненависть, и ей надо было сопротивляться. Решение должно было быть духовное, его надо было перенести внутрь: в той же статье «Революция и народное самоопределение» Иванов иллюстрирует эту идею эзотерическим образом «стража порога»: «Страж порога» встает перед человеком на пороге духовного перерождения; это собственный двойник человека, собравший в своем обличии все то низшее и темное, что мрачит в нем образ и подобие Божье:
На пороге духовного перерождения встает перед человеком страж порога. Если человек не одолеет этого препятствия, он отбрасывается назад. Этот страж-испытатель является человеку — им самим, его собственным двойником, собравшим в своем обличии все самое темное в нем. Нельзя мне ни оттолкнуть, ни обойти, ни уговорить стража. нужно узнать в нем своего же двойника, не устрашась своего живого зеркала и не утратив веры в свое истинное Я: только тогда можно двинуться навстречу двойнику и пройти через него, сквозь него – к тому, что за ним, – кто за ним … Если я найду в себе сосредоточенную силу прильнуть к тому, кто во мне воистину Я Сам, если сольюсь в своем сознании со своим во мне вечно живущим и всечасно забвенным ангелом, который – не кто иной, как Я истинный, Я, изначала и впервые сущий, – тогда, светлый и мощный, могу я сказать своему двойнику: «ты – я», и свет мой вспыхнет в нем и сожжет темную личину, и, открывая передо мной ослепительный путь, он скажет мне, проходя, благодарный, мимо: «ты – путь».
Россия стоит на пороге своего инобытия… Страж порога, представший перед ней – ее же собственный образ. Кто говорит – это не Россия, — бессознательно тянет ее вниз, в бездну. Кто говорит – отступим назад, вернемся к старому, сделаем случившееся небывшим – толкает ее в пропасть сознательно. Кто хочет пронзить и умертвить свое живое подобие, умерщвляет себя самого…[53].
Вывод Иванова: «Только пробуждение религиозной совести даст народу силу сказать двойнику ты — я. Самоопределение народа должно быть религиозным». Только так он видит возможным прекращение междоусобицы.
Иванов призывает к подлинному всенародному покаянию. Вместо того, чтоб винить друг друга в случившемся, говорит Иванов, лучше нам узнать в искаженных чертах больной и неистовствующей России, ее самое, и с нею – нас самих. Статья Иванова предлагает решение, альтернативное отрицанию. Приятие, самоотождествление, бесстрашное слияние с Россией в ее новой пугающей ипостаси – решение наиболее трудное.
Подобно Иванову, молодой прозаик Алексей Толстой от революции ждал духовного и творческого всенародного обновления, ростки которого он описывал в своих военных очерках и в том же «Народоправстве» еще накануне Октября. В своих собственных статьях 1917 года он призывал к мужеству и терпению. «Революция сама по себе не благо, а лишь плодоносящая болезнь»[54] — утверждал он. После переворота оптимизм его грозил убавиться. Нужно было сохранить веру в лучшее в народе, не поддаться ненависти. Возможно, именно в этот момент ему понадобилась психологическая поддержка, которую он мог найти в ивановской эссеистике.
Вот совершенно эзотерический эпизод, который Толстой, возможно, написал под вдохновением ивановской статьи «Революция и народное самоопределение». Он появляется в толстовской статье «Ночная смена». Это начало января 1918 года, газета «Луч правды»:
И вот теперь пришел страшный час встречи. Не из-за облаков пришла наша возлюбленная, родина. Не в венце свобод. Не в чистых одеждах. А поднялась вот здесь от земли, рядом с нами.
Отскочили. В ужасе отпрянули мы. Что это? Кто эта страшная и дикая, с одеждой в земле, с руками в крови и ранах, с искаженным мукой, безумным лицом! Я не знаю тебя! Я не звал тебя! Кто ты?
Я твоя родина! …..
– Говоря по совести, мы представляли, что встретим прекрасную даму, в кокошнике и голубом сарафане, добрую и милейшую, что-нибудь вроде той, что рисуют на машинах Зингера.
А появилась не добрая и не прекрасная [55].
Персонаж вначале думает все бросить и уехать: «пусть она – дикая бабища, в кровавых лохмотьях, родина моя – гуляет одна по голым степям, по курганам, воет диким воем от голода, от бессильной ярости» — но затем, по ивановскому образцу, приходит к мысли, что необходимо отдать себя родине без остатка.
Как и у Иванова, как и у Волошина во всех статьях и стихах, как и у Эренбурга в «Молитве о России», так итог всей революционной публицистики Толстого – требование прекращения состояния ненависти, в котором пребывает Россия.
Толстой отмечает бессознательность массовых процессов, автоматизм их пассивных участников: он выводит «закон детонации» – то есть механического распространения политических катастроф: больше всего его занимает то, что в этом вовсе не участвует индивидуальный фактор. Проблема обезличения человека взывает к воскрешению личности: «Чтобы воскрес в потухших людях огонёк духа, нужна любовь».
В белой Одессе в 1918 -1919 гг. Толстой пишет и публикует в «Одесском листке» цикл статей. Одна из них называется «Не я, но ты»; представляется, что одушевляет здесь Толстого еще одна идея, почерпнутая из чтения Вячеслава Иванова или услышанная из его уст:
Сейчас, в непогоду революции, сильным и правым окажется тот, кто бросит семена не зла и мщения, а любви к человеку. Кто утвердит свободную личность. Кто даст моему огню разгореться, но не в гипертрофированное «я», а в согласное, светлое, всечеловеческое «ты». Потому что я был среди людей и растворился в них, и, если мне суждено вновь возникнуть, но возникну новым, не во имя свое, а во имя своей любви.
Любовь, наполняющая меня, – «ты» в моем сознании, – и есть моя истинная личность.
В 1914 г. Иванов прочел в Москве лекцию «Достоевский и роман-трагедия», где говорились вещи очень похожие:
Не познание есть основа защищаемого Достоевским реализма, а «проникновение»: недаром любил Достоевский это слово и произвел от него другое, новое – «проникновенный». Проникновение есть некий transcensus субъекта, такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как другой субъект. …Символ такого проникновения заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением, чужого бытия: «ты еси». При условии этой полноты утверждения чужого бытия, … чужое бытие перестает быть для меня чужим, «ты» становится для меня другим обозначением моего субъекта. «Ты еси» — значит не «ты познаешься мною, как сущий», а «твое бытие переживается мною, как мое», или: «твоим бытием я познаю себя сущим». Es, ergo sum.
.Человек… должен сам найти своё другое как точку опоры – должен действием любви и той веры, которая уже заключается в любви и её обусловливает, обрести своё ты еси. <…>[56]
Всечеловеческое Ты, утверждение любовью другого и через это обретение своего «Я» у Толстого и есть «Ты еси» Иванова, растолкованное общедоступным языком.
И еще одна идея Вячеслава Иванова, как нам представляется, развернута у Толстого в его романе «Аэлита» — это бесплодность чистого знания или духа, необходимость его нисхождения в плоть. «Нисхождение и преображение» — так называлась книжечка парижских статей Толстого об искусстве, вышедшая в том же 1922 году в Берлине. Главная мысль книги в том, что «божественная тяжесть жизни» овладела искусством, придя на смену развоплощенному искусству революционных лет.
Где-то в 1918 – 1919 гг. кристаллизуется смысловая структура, возможно, и представляющая основной миф Толстого: «тяжесть жизни», жажда жизни: земля, материя, природа, конкретика, личность – божественны. Наоборот, идея, дух, гипертрофированный разум, логическая абстракция, силлогизм, механическая цивилизация – агенты сатаны. Уравнение довольно привычное в постчеховской литературе![57] Здесь и реакция на символизм акмеистов и других его наследников, и «розановская» составляющая. Отчасти это похоже даже на раннего Платонова, боготворящего землю, материю, частные случаи в противовес общим законам, и отвергающего сатану разума. Тема эта, по всей видимости, также пришла к нему из статей Вячеслава Иванова. В статье «Символика эстетических начал», 1909, посвященной Борису Бугаеву, Иванов писал, полемизируя, очевидно, с эссе Белого «Луг зеленый»:
Восхождение, то есть, отрешенный, белый разрыв с зеленым долом[58] — еще не красота. Божественное благо нисходит, радуясь, долу <…> Нас пленяет зрелище подъема, разрешающееся в нисхождение <…> Нисхождение — символ дара <…> Восхождение — разрыв и разлука; нисхождение — возврат и благовестие победы <…> Восхождение Нет Земле; нисхождение — кроткий луч таинственного Да[59].
Итак, идея нисхождения, одушевляющая «Аэлиту», воспринята Толстым из ивановского источника, исконно имевшего целью полемику с фанатическим отвержением всего, что не есть чистая духовность. (Другая более поздняя статья Иванова, касающаяся той же проблематики — это статья «Русская идея», где признается религиозный смысл нисхождения, близкий, как он утверждает, основам русской духовности).
Напомнить об этой концепции Иванова, важнейшей для Толстого могла другая культурная веха 1922 года: «Переписка из двух углов», в которой Иванов говорит: «Ни один шаг по лестнице духовного восхождения невозможен без шага вниз, по ступеням, ведущим в ее (памяти. — Е. Т.) подземные сокровища; чем выше ветви, тем глубже корни»[60] Несомненно, Толстой сочувствовал Иванову, а Гершензона сам еще в 1918 году осудил за пораженчество и «культурное бегство»[61]. Сам он в своей берлинской брошюре «Нисхождение и преображение» призывал к восстановлению культурной памяти.
Толстой позиционировал себя как писатель общенародный, находящий общий язык и с чиновниками-монархистами, и с эсеровской верхушкой, и с офицерами, и с солдатами. Его изобретением было умение излагать сложные вещи разговорным, общепонятным, субъективным, выразительным языком. Он включал в свою прозу двадцатых и даже начала тридцатых сложные и модные оккультные — теософские и ариософские – концепции, изложенные в популярной форме. Но помимо того, Толстой наполнял свои романы идеями своих учителей-символистов Максимилиана Волошина и Вячеслава Иванова[62]. Его роль оказывалась таким образом эффективным посредничеством между интеллектуальными верхами и широким читателем.
______________________________________________________________________________________________________
[1] ЕленаТолстая. Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург. М., НЛО, 2013. Главки «Толстой и Иванов», «Нисхождение в «Аэлите».С.345-349.
[2] 242. А.В .Гольштейн 17 мая 1910 г. Коктебель 17.V. 1910.
// https://imwerden.de/pdf/voloshin_sobranie_tom09_2010_text.pdf
[3] Гаспаров М. Л. Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 года / / НЛО, 10 (1994), С. 89–105.
[4] Толстая Е. «Юношеские пьесы Алексея Толстого» // Солнечное сплетение (Иерусалим). 1999. № 6.
[5] Тименчик Р.Д. «Программы “Бродячей собаки”» // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник: 1983. Л., Наука, 1985. С. 160-257. [Совм. с А. Е. Парнисом.]; Тименчик Р.Д. Что вдруг. Статьи о русской литературе ХХ века. Москва-Иерусалим: Гешер/Мосты культуры, 2005. С.147-158. См. также: Тименчик Р. В артистическом кабаре «Бродячая собака». К столетию со дня рождения А. Н. Толстого //Даугава. 1983, № 1.
[6] Черное и белое, 1912, № 2. Ср. в романе Толстого «Егор Абозов» (1915): в ПСС Толстого этот кусок выпущен: «… символист Шишков в пятом часу утра закуривал папиросу, и у него вспыхнула и сгорела борода, на что Горин-Савельев написал экспромт: «Авессалом погиб от власа», и т. д. – А.Н.Толстой. Собр. соч. в 10 тт. М., 1958. Т.2.С.385.
[7] Дымшиц-Толстая (Пессати) Софья Исааковна (1889–1963) – живописец и график. Занималась в Петербурге у С.С. Егорнова (1906–1907) и в школе Е.Н. Званцевой (1908–1910) у Л.С. Бакста, М.В. Добужинского, затем в Париже в школе «Ла Палетт» у М. Бланш и Ш. Герена (1908). Участвовала в выставках с 1912 г. (Петербург). В 1910 г. исполняла в основном натюрморты (цветы). В годы революции – сотрудница В. Татлина. С 1923 г. была замужем за немецким художником-коммунистом Г.Пессати, эмигрировавшим в Россию.
[8] Традиционная версия изложена в: Обатнина Е.Р. Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А.М. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001, С. 66–77. Версия Софьи, данная в ее частично опубликованных мемуарах ( Дымшиц-Толстая С.И. [Воспоминания] // Воспоминания об А.Н.Толстом. М., 1982. С.13 -14; более полная версия: Дымшиц-Толстая С.И. [1950] // Русский музей. Сектор рукописей. Ф. 100. Ед. хр. 249), дана в Толстая Е. Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург. М., Новое литературное обозрение, 2013, С. 113-116.
[9] Обатнина, там же; Толстая: Ключи счастья, С.116-118.
[10] Подробнее о причинах матримониальных затруднений Толстых: Толстая: Ключи счастья. С.117-119.
[11] Вяч. Иванов. Кормчие Звезды. Книга лирики. СПб.,1903, тип. А.С. Суворина, С.173. = Иванов Вяч. Кормчие Звезды. Книга лирики. СПб.,1903, тип. А.С. Суворина = Иванов Вяч. И. Собрание сочинений: в 4 тт. Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 1. С.604. Иванов = Иванов Вяч. И. Собрание сочинений: в 4 тт. Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 2. С. 256.
[12] Он же. Язвы гвоздиные // Соr Ardens, ч. I. М., Скорпион, 1911. Иванов = Иванов Вяч. И. Собрание сочинений: в 4 тт. Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 2. С. 256.
[13] Ошибка, в подлиннике: «Над тобой, о родная страна!».
[14] Толстая: Ключи счастья» Гл.3. С. 150-184.
[15] Толстая Е. Мирпослеконца. Работы о русской литературе 20 века. РГГУ, 2002. С.97-133.
[16] РГАЛИ. Ф. 769, оп. 1, ед. хр. 41, л. 3. // А.Н.Толстой. Материалы и исследования. М., 1985: 269.
[17] Волошин М. Наброски I и II действий [1912] // Отдел рукописей Института русской литературы. Пушкинский Дом. Ф. 562. Оп. 1. № 402 // А.Н.Толстой. Материалы и исследования. М., 1985: 269.
[18] Цит. по Купченко В.П. «Первый наставник: Из писем Алексея Толстого к Максимилиану Волошину» / Вступ. заметка, сост. и коммент. Вл. Купченко // Литературное обозрение. 1983. C.107–111. В мае 1912 года Толстой приезжает в Коктебель. Тут он почти сразу получает (или ему пересылают из Петербурга) письмо от режиссера Ф.Ф. Комиссаржевского, см. А.Н.Толстой. Переписка. В 2 тт.Т.1. М.:Художественная литература. 1989. С. 193–194. Письмо это утрачено, однако отчасти восстанавливается по ответному письму Толстого. Комиссаржевский искал новых авторов для театра Незлобина в Москве и обратился к Толстому с приглашением написать пьесу.
.
[19] Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. В 2тт. Т.1. 1926-1927. Paris: YMCA-Press. Русский путь. 1997. С. 22–23.
[20] Сестры Герцык ]Е. К., А. К.[Переписка. М., 2003. C. 155. Имеется в виду московский библиографический журнал-дайджест «Бюллетени литературы и жизни», который издавал его тесть В.А.Крандиевский.
[21] Купченко B. Труды и дни Максимилиана Волошина.1877–1916. СПб., 2002. С. 364.
[22] Герцык Аделаида Казимировна (1874–1925) – поэтесса, прозаик, переводчица, близкая к кругу символистов и религиозных философов.
[23] Письмо Е.О. Кириенко-Волошиной М. Волошину от 15 (28) декабря 1914 г. // Купченко: Труды…С. 360.
[24] Там же.
[25] Письмо Е. О. Кириенко-Волошиной М. Волошину от 31 декабря 1914 (13 января 1915 г.) // Там же. С. 361.
[26] В.Ф. Эрн писал об этом вечере Е. Д. Эрн: Ср. письмо В.Ф.Эрна (жившего в то время у Иванова) своей жене Е.Д. Эрн от 4 февраля 1915 г.: «<…> Позавчера был вечер у Герцык, где выступали в высочайшем присутствии твоего друга-маэстро 5 поэтесс. Вяч<еслав> был очень сдержан и «слез» не было, а я уже приготовил чистый платок. Читала стихи свои Крандиевская. Мне ее представили как невесту А.Н. Толстого. // Взыскующие града. Хроника русской религиозно-философской и общественной жизни первой четверти ХХ века в письмах и дневниках современников. Вступительная статья, публикация и комментарии В.И. Кейдана. М., 1997. С.618.
[27] Купченко, Труды…: С. 365.
[28] Взыскующие града: С.634.
[29] 570. В.Ф.Эрн — Е.Д.Эрн <8.04.1915. Москва — Тифлис>//Взыскующие града. С.634, 636. .
[30] Взыскующие града: С.638.
[31] Купченко, Труды…: С.371.
[32] Ср. его же письмо жене от 24 марта 1915 г.: «<…>На первый день Пасхи был «Алешка». Прочел вслух свой рассказ из «Рус<ских> вед< омостей>», сидел долго, заговорился. Мы с Вяч<еславом> его похвалили, и он был очень доволен. Как раз письмо твое, где ты вспоминаешь его, я читал при нем и, если б он скосил глаза и «нырнул» взглядом в письмо, он бы с удивлением прочел «Алешка» <…>» Взыскующие града: С. 634.
[33] Вяч. И. Иванов. Собрание сочинений: в 4 тт. Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 3, С. 503—504.
[34] Там же..
[35] А.Н. Толстой, Письма с пути. Письмо XXIII. Русские ведомости, 11 марта 1915 г. //А. Н. Толстой. Сочинения. Т. 6. Изд. второе, дополненное. Книгоиздательство писателей в Москве, 1916. С. 102.
[36] Корней Чуковский. Собрание сочинений. В 15тт. Т. 5, М., 2008, С. 261. Прим. 3.
[37] Казакова И.П. «А.Н. Толстой. Егор Абозов. Варианты неоконченного романа. Статья и публикация» // А.Н. Толстой. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2002. C.150-151.
[38] Толстая E. Михаил Кузмин и Алексей Толстой: Литературные пересечения//The Many Facets of Mikhail Kuzmin. A Miscellany. Ed. By Lada Panova with Sarah Pratt. Compiled and introduced by Lada Panova. Bloomington, Indiana, 2011. C.181-212. Она же. Ключи счастья, С.177-184.
[39] Семена бури: ср. «…вселенского пожара мы семена» («Жертва», «Кормчие звезды», 1909). Ср. в мемуарах Г. Чулкова «Тогда дьяволы сеяли семена бури». Г.Чулков. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., Эллис лак, 1999 (глава «Факелы», С. 104). В 1908 г. Чулков написал пьесу «Семена бури». В 1918 году он процитирует эту фразу в своей антиблоковской статье «Красный призрак» — Народоправство, 23-24. С.14. Чулков был ближайшим сотрудником Иванова в период «мистического анархизма», Блок в то время разделял эту идею. После революции Чулков ставил эти увлечения себе в вину, а нераскаявшегося Блока считал орудием дьявольских сил.
[40] Пелион – гора в восточной Греции. «Оссу на древний Олимп взгромоздить», а «Пелион взбросить на Оссу» хотели взбунтовавшиеся внуки Посейдона, чтоб подняться на небо. Осса – гора в Греции.
[41] «Делос» называлось стихотворение Волошина в №1 «Аполлона» об острове в архипелаге Киклад, где находилось святилище Аполлона.
[42] Дельфы — древнегреческий город в юго-восточной Фокиде, общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона, духовная столица эллинского мира, Гунны не жгли Дельфы — галл Бренн хотел cжечь город, но испугался грозы. Грабили Дельфы фракийцы, потом римляне при Сулле, потом готы в 3 веке, и наконец византийцы при Феодосии, окончательно запретившем языческий культ – тогда знаменитую змеиную колонну и Омфалос перевезли в Констатинополь.
[43] Намек на альманах «Факелы» (1906-1908), издававшийся т.н. мистическими анархистами во главе с Георгием Чулковым, которых идейно поддержал Иванов, написавший предисловие к первому выпуску.
[44] Не демагоги, а мы – ср. концепцию Иванова о поэте келейном, который в уединении от злобы дня пишет вещи, необходимые всему народу. Говорить с народом: ср. комплекс ивановских идей о всенародном театре как способе преодоления разрыва между народом и искусством.
[45] Облеченные в царские одежды, в виссон и пурпур – пурпуром называлась одежда из шерсти или шелка, окрашенных в лиловый (все оттенки от синего до розового) одноименной краской, добывавшейся из моллюсков. Виссон – очень тонкая льняная белая ткань. В Притчах Соломоновых эти ткани носит добродетельная жена. В древнем мире «пурпур и виссон» — одежда первосвященников и царей.
[46]Толстая Е. «Бедный рыцарь»: Интеллектуальное странствие Акима Волынского. М.- Иерусалим, 2013. С. 354-356.
[47] Толстой А.Н.. Собр. соч. В 15 тт. Т.15. М., 1953. С.11.
[48] Отдельной темой могут быть многочисленные совпадения между интеллектуальными и художественными наитиями обоих авторов, Волынского и Иванова, столь активно отрицавших друг друга.
[49] Републикованы: Иванов В. Совесть народная уже смущена: Вяч. Иванов о событиях семнадцатого года: публикация Г. Обатнина и А. Соболева / В. Иванов // Независимая газета. 1992, 30 сентября, № 188. С. 5. 8. См. Обатнин Г.В. Штрихи к портрету Вяч. Иванова эпохи революций 1917 года / Г.В. Обатнин // Русская литература. 1997. № 2. С. 224-230.
«Луч правды» издавался Союзом солдатского и крестьянского просвещения; формально редактором-издателем был А. Дятеллович, главными же сотрудниками (первых номеров) – правый эсер М. А. Осоргин и кадетская деятельница Е.Д. Кускова. Впрочем, политический спектр этой газеты был весьма широк. Помимо Толстого, из сотрудников «Народоправства» в «Луче правды» печатались Вяч. Иванов и Вл. Ходасевич. Московские религиозные философы представлены были С. Булгаковым. «Луч правды» занимал последовательно антигерманскую позицию. В гневной филиппике Вячеслава Иванова «Социал-маккиавелизм и культур-мазохизм» в №1 речь идет о зависимости Германии от России: немецкая азефовщина мечтает поджечь Германию, а для этого ей сперва надо сжечь Россию, овладеть пространством и сделать Россию пригородом немецкого города. Этому идет навстречу русский самородный «культур-мазохизм». Истерика может обернуться жаждой изнасилования. Женственное славянство влюблено в мужскую силу, воплощенную в германстве, а союзники готовы предоставить нас нашему суженому – Змею-Горынычу. Вячеслав Иванов чрезвычайно резок и в своей следующей статье, «Предательство» в №2, говоря о сдаче России немцам: «Когда я вижу торопливость нынешних вершителей нашей народной судьбы и насильников над нашею народною совестью, отвечать перед которою будем мы сами, и дети, и внуки наши, – мне кажется, что это – их бред, торопливость одержимого преступною волею, которому уже не под силу терпеть далее ни малейшей задержки и отсрочки в исполнении умышленного им злодеяния. “Только бы скорее покончить дело”, – вот всё, что они способны думать в своем исступлении: “после будь, что будет”… <…> Я говорю о спешке разорвать с [союзниками] всякое дружеское общение и отдать родину в распоряжение Германии».В результате, считает Иванов, Россия будет подчинена Германии и сделается ее сообщницей. В №3 «Луча правды», открывшимся приветствием Учредительному собранию, в статье Вяч. Иванова «Краеугольный камень» повествуется, как уже пролилась мученическая кровь на Руси: это рассказ о царскосельском священнике, который встал перед сражающимися не с тем, чтобы поддержать один из вооруженных станов, – встал с иконами и крестами, во имя Христово, и сказал враждующим: «Мир вам!» – а на другой день был казнeн. Вывод автора: духовный перелом совершается, совесть народная уже смущена.
Статьи Иванова «Социал-макиавелизм и культур-мазохизм» — №1, «Предательство» — № 2, «Краеугольный камень» — № 3, «Ловушка» — № 4.
Статьи Толстого вышли в № 1. Ноябрь 1917; № 2. 27 ноября 1917 г.; № 3, 4 декабря 1917 г.; № 4. 11 декабря 1917 г.
[50] Толстая: Деготь или мед. С. 92–96, 297–302.
[51] Наоборот, Белый еще в 1918 году написал яростную отповедь Вячеславу Иванову: это брошюра «Сирин ученого варварства», в которой он бурно протестовал против тогдашнего тезиса Иванова, что революция протекает безрелигиозно. Он издал ее вскоре по переезде в Берлин, возможно, в ответ на «Переписку из двух углов», в которой Иванов продолжал декларировать свою верность гуманистическим ценностям. Впрочем, уже в апреле 1922 года Белый заявил о несогласии с самим собой: «Мы с покойным А. А. Блоком верили в близкое будущее: в народное творчество снизу. Ведь террор еще не разражался. Ведь миллионы не гибли с голоду. С той поры, как советская власть уничтожила духовную основу жизни “Советов” , фразы, подобные встречающимся в моей брошюре (с. 16–22), звучат анахронизмом. Будь они написаны в 1922 году, они прозвучали бы издевательством; теперь, когда хватают меньшевиков, правых и левых эсеров, когда от голоду гибнут миллионы людей, нельзя писать: “Революция протекает религиозно”… “Самоопределение народа в ней целостно”… и т. д.» — Белоус Владимир. Вольфила. [Петроградская Вольная Философская ассоциация]. 1919–1924. Кн. 1–2: Модест Колеров и «Три квадрата». М., 2005. С.328.
[52] Бердяев Н.А. «Объективные начала общественности» // Народоправство №13 , 23 октября, С.9.
[53] Народоправство, №14, 30 октября 1917 г. С.8 и сл. О важности этой темы для других русских писателей см. Спивак М.Л. Встреча со стражем порога в поэтической мифологии Андрея Белого.// Материалы Международного конгресса «100 лет Р.О. Якобсону».Москва 18-23 декабря 1996 г. М., РГГУ, 1996. С. 137-139.
«Умерщвляет себя самого» — ср. сон героини у Толстого в «Хождении по мукам»: человек снимает с себя голову и начинает ее есть.
[54] Толстой А.Н. Из записной книжки. //Народоправство №11, 1917, 11 октября.
[55] Републиковано: Толстая. Деготь или мед, С. 92–96, 297–302.
[56] Вяч. Иванов. Родное и вселенское: Статьи: 1914–1916. М.: Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. Год. изд. на тит. л.: 1917. Цит. по: Родное и вселенское / Сост., вступ. ст. и примеч. В.М. Толмачева.— М.: Республика, 1994. М., 1994, С.98. В основу статьи положена речь, произнесенная в московском Религиозно-философском обществе, по случаю доклада С.Н.Булгакова «Русская Трагедия». Доклад и статья вышли в «Русской Мысли» №4 за 1914 г. Первый вариант этой концепции – в статье «Ты еси» в журнале «Золотое Руно» (1907) = Ты еси //. Иванов Вяч. И. Собрание сочинений: в 4 тт. Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 3. С.262-268.
.
[57] Ср. у К.Чуковского в статье 1924 г.: «Чем дальше, тем буйнее восстает он против разума. Стоит только разуму ворваться в его Чудесную Страну Легкомыслия, он принимает все меры к немедленному изгнанию злого врага. Четыре раза в книгах Алексея Толстого появляется разум, и всякий раз Толстой встречает его, как злодея. В своей недавней пьесе «Смерть Дантона», Толстой предлагает нам формулу:
Дантон=любовь=радость=жизнь.
Робеспьер=радость=страдание=смерть.
В пьесе «День Битвы» точно такая же формула:
Русские=любовь=радость=жизнь.
Немцы=разум=страдание=смерть.
В последнее время он дал ненавистному разуму два генеральных сражения — в «Лунной сырости» и «Бунте машин»<…> Чуковский К. Портреты современных писателей. Алексей Толстой. //Русский современник.№1. 1924 г. С.263.
Ср. также замечание покойного М.Агурского: «Глубокий мистицизм самого Толстого, являющийся духовной основой его национал-большевизма, отражен в теории происхождения на земле зла. Первородным грехом человечества была его опора на разум. Здесь слышится влияние русской религиозно-философской мысли, видящей корень зла в кантианстве. Бытие и жизнь существ постигались как нечто выходящее только из разума. Все остальное объявлялось плодом воображения. Каждый человек стал утверждать, что он и есть единственный сущий. Толстой противопоставляет этому <…> доктрину преднамеренного грехопадения. Основным законом жизни должно быть «нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть». Разум должен пасть в плоть «и пройти через живые врата смерти». Падение разума совершается силою полового влечения. — Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, YMCA-Press, 1980. С. 90. Агурский опирался здесь на книгу: Iuergen Ruele. Literature and Revolution, New York 1969. P. 624.
[58] Ср. стихотворение Иванова «Разрыв»: «Верь духу, и с зеленым долом Свой белый торжествуй разрыв!» Иванов Вяч. Кормчие Звезды. Книга лирики. СПб.,1903, тип. А.С. Суворина = Иванов Вяч. И. Собрание сочинений: в 4 тт. Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 1. С.603.
[59] Иванов Вяч. «Символика эстетических начал» // По Звездам. СПб.: Оры, 1909, С.24-26 ; Иванов Вяч. И. Собрание сочинений: в 4 тт. Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 1. С.826.
[60] Переписка из двух углов / Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон.— Пб.: Алконост, 1921, С.26.
[61] Толстая: Деготь или мед. С. 91–92.
[62] В русской литературе 20 века часто описывалась атмосфера «башни», но мы не встречаем популяризации идей Вячеслава Иванова, с одним исключением – это повесть «Ворон (Символисты)» Ольги Форш (1933) — но и в ней рассказывается об идеях и практиках, скорее касающихся семейной жизни — в которую, по Форш, символисты пытались внести элементы коллективизма, столь востребованного в тридцатые годы, когда писалась книга.
