Глава 13. Человек меняет вехи: заметки на полях
Парижская ситуация и начало сменовеховства.
Тема «Толстой и сменовеховство» затрагивается в глубоком и подробном исследовании Лазаря Флейшмана и супругов Хьюз, а в боковом ракурсе затронута и в новейшем горьковедении — в книге Н.Н.Примочкиной «Горький и писатели русского зарубежья»[1], где окончательно развеивается олеографическая версия о том, что Горький якобы способствовал возвращению Толстого.
Однако, и новая картина зияет провалами и неясностями. Почему именно Толстой первым сблизился со сменовеховцами, с кем из них он обсуждал свое присоединение к их платформе, что было ему обещано? Было ли возвращение необходимой частью схемы? Был ли переезд в Берлин связан с планом создания сменовеховской газеты или газету создали «под него»? Кто и где принял это решение или проект решения в конце лета или осенью 1921 г. – при том, что разговор о литературной политике в Агитпропе состоялся только в феврале 1922 г.? Кто поощрял сменовеховцев? Только что созданное ГПУ с недавно перешедшим туда из секретариата ВСНХ Яковом Аграновым, который осенью 1921 г. уже вынашивал планы «Треста», кто-то в Агитпропе или в Наркоминделе?? Под чьи обещания сменовеховцы переехали в Берлин? Как финансировалась газета и через какое подставное лицо? Одним словом – как связано появление «Накануне» с другими проектами, направленными на разложение эмиграции?
И, наконец, наведение мостов с Советской Россией было для эмиграции главным событием 1921–1923 гг., в котором участвовали тысячи людей, по-разному пытавшихся преодолеть раскол. Хотели бы вернуться сотни тысяч. Взвешивали возможность возвращения многие. Реально вернулось несколько десятков человек. Но, кажется, ни один их них не вызвал ни такой паблисити, ни такого шквала гнева, как Алексей Толстой. Почему?
Чем был берлинский период для творчества Толстого? Как изменилось его положение в литературе? Что означал в этой ситуации отъезд? До какой степени Толстой был свободен тогда в принятии решений? Остается надеяться, что заданные вопросы «вызовут к жизни» новые материалы, и история поделится с нами своими секретами.
Настоящая главе никоим образом не является полным и последовательным описанием эмигрантского периода Толстого, с обязательными живописными подробностями из многочисленныхвсех мемуаров. Задача настоящей работы —«расстановка фигур» — то есть группировка и осмысление уже известных, но пока еще никем не сводившихся вместе данных, с целью выявить логику действий главных лиц этой истории. Документальные ключи к этой истории до сих пор скрыты; предложенные построения представляют собою не утверждения, а вопросы, на которые, я надеюсь, существуют ответы.
Взлет и падение. У Толстого были причины в 1919 г. считать себя главной фигурой литературного Парижа: ведь Бунины до начала 1920 г. оставались в Одессе, а Мережковские до поздней осени 1920 г. — в Петербурге. Толстой написал Бунину несколько писем, звал в Париж, маня широкими возможностями[2].
16 февраля 1920 г., за месяц до приезда Бунина, Толстой сообщает в Берлин Ященко о парижских издательских начинаниях:
…Здесь создается крупное издание: 6 томов по русской литературе и искусству. Капитал 720 тыс. Я приглашен главным редактором. В течение двух недель – дело должно оформиться, т.е. нам выдадут двухсоттысячный аванс и тогда мы приступаем к первому тому. [3]
Условия для авторов он обещает роскошные, печатать же серию хочет в Германии и просит Ященко взять это на себя, за помесячную плату. В том же письме Толстой пишет о затеваемом журнале «Грядущая Россия». Он обещает Ященко 500 экземпляров первого номера, который еще печатается.
Но вот приезжает Иван Бунин – он сам звал его в Париж, маня широкими возможностями. Через неделю после приезда Бунин записывает в дневнике:
Толстые здесь очень, очень поправились. Живут отлично, хотя он все время на грани краха. Но они бодры, не унывают. Он пишет роман. Многое очень талантливо, но в нем «горе от ума». Хочется символа, значительности, а это все дело портит. Это все от лукавого [4]. Все хочется лучше всех, сильнее всех, первое место занять[5].
Видимо, подобные амбиции отчетливо прочитывались в поведении Толстого. Но место первого писателя эмиграции в Париже, как было и в Одессе, отныне принадлежало Бунину. Чтоб утвердить себя, Толстой должен был сделать рывок, выступить с крупной вещью на современную тему. Пока у него не было собственного романа, первенство Бунина – и социальное, и литературное – казалось абсолютным и не оставляло честолюбивому сопернику никаких надежд. Поэтому на свой роман о революции – «Хождение по мукам» — Толстой сделал главную ставку.
Но внезапно печатание романа застопорилось. Журнал «Грядущая Россия» (про который Толстой сам говорил, что организовал его, чтоб печатать свой роман) внезапно погиб. Почему весной 1920 г. после всего двух номеров, прекратилась «Грядущая Россия»? Никто этого вопроса, кажется, не задавал.
В списке участников некоторые люди, как И.И. Бунаков-Фондаминский и М.В. Вишняк[6], были знакомы Толстому по московским и одесским оппозиционным газетным проектам 1918 -1919 г., связанным с парижским эсеровским центром, за которым стояла чета Михаила Осиповича и Марии Самойловны Цетлиных, наследников чайной империи Высоцкого. Толстой дружил с Цетлиными, переехавшими летом 1917 г. в Россию, и сотрудничал в московских оппозиционных газетах, ими финансируемых — от однодневной газеты «Слову — свобода!», вышедшей в начале декабря 1917 г. до «Возрождения», выходившего поздней весной 1918 г., а затем вместе с ними отправился в Одессу, и, через полгода, далее в Париж.
Главным лицом, идейным руководителем журнала был М.А. Алданов[7]. Все это — будущие руководители журнала «Современные записки». Известно, что к первоначальному финансированию «Современных записок» был причастен А.Ф Керенский, через которого поступили средства от правительства Чехословакии. Однако организация этого нового журнала началась лишь летом 1920 г., вскоре после сворачивания «Грядущей России». Кто же финансировал «Грядущую Россию»? Приходится думать, что сами Цетлины, возможно, при участии Союза городов — Земгора, располагавшего крупными суммами. Во главе этой организации стоял Н.Д. Авксентьев, зять М.С.Цетлиной.
(Толстой был, еще по военным временам, знаком и с другими важными деятелями союза – с В.Вырубовым (о котором он написал восторженную статью в начале 1917 г.), а главное — с дружественным ему князем Г. Львовым[8] (в 1919 г они в Париже издали по-русски и по-французски яростную антибольшевистскую брошюрку «A nos freres aines!» — «К нашим старшим братьям!» (см. приложение).

А nos freres aines
Состав редакции «Грядущей России» был неоднороден: наряду с эсерами в журнале участвовали гораздо более «правые»: старый общественный деятель Н.В. Чайковский[9], отошедший от эсеров и близкий к кадетам, кадет Г.Е.Львов, барон Б.Э.Нольде,[10] «русский француз» психолог В.А. Анри[11] (в своей собственной статье в первом номере журнала почему-то возложивший вину за современный мировой кризис на Эйнштейна), сам Толстой, который фактически возглавлял там отдел беллетристики, и приехавший Бунин, почетно приглашенный на заседания редколлегии. «Грядущая Россия» была для Цетлиных первой «пробой» толстого журнала, и они, по причинам, о которых можно только догадываться, явно сочли ее неудачной.
Толстовские шансы пошли вниз, когда приехал Бунин. Авторитет его был несравним с толстовским. Бунин имел успех именно там, где Толстой был всего слабее – в прямом слове, в журналистике, – и, по нашему предположению, быстро затмил его звезду, взошедшую поначалу в парижской среде. Насмотревшийся на одесских большевиков Бунин настроен был непримиримо. Отчётливая его позиция выигрывала по сравнению с уже не столь внятной и не столь правой, как в 1919 г., позицией Толстого. Политические статьи он, как и Толстой, печатал не в эсеровских «Последних новостях», а в гораздо более правом «Общем деле» Бурцева, русских социалистов не одобрял (иногда и публично, в печати), но социалисты Цетлины охотно включали его в свои литературные проекты.
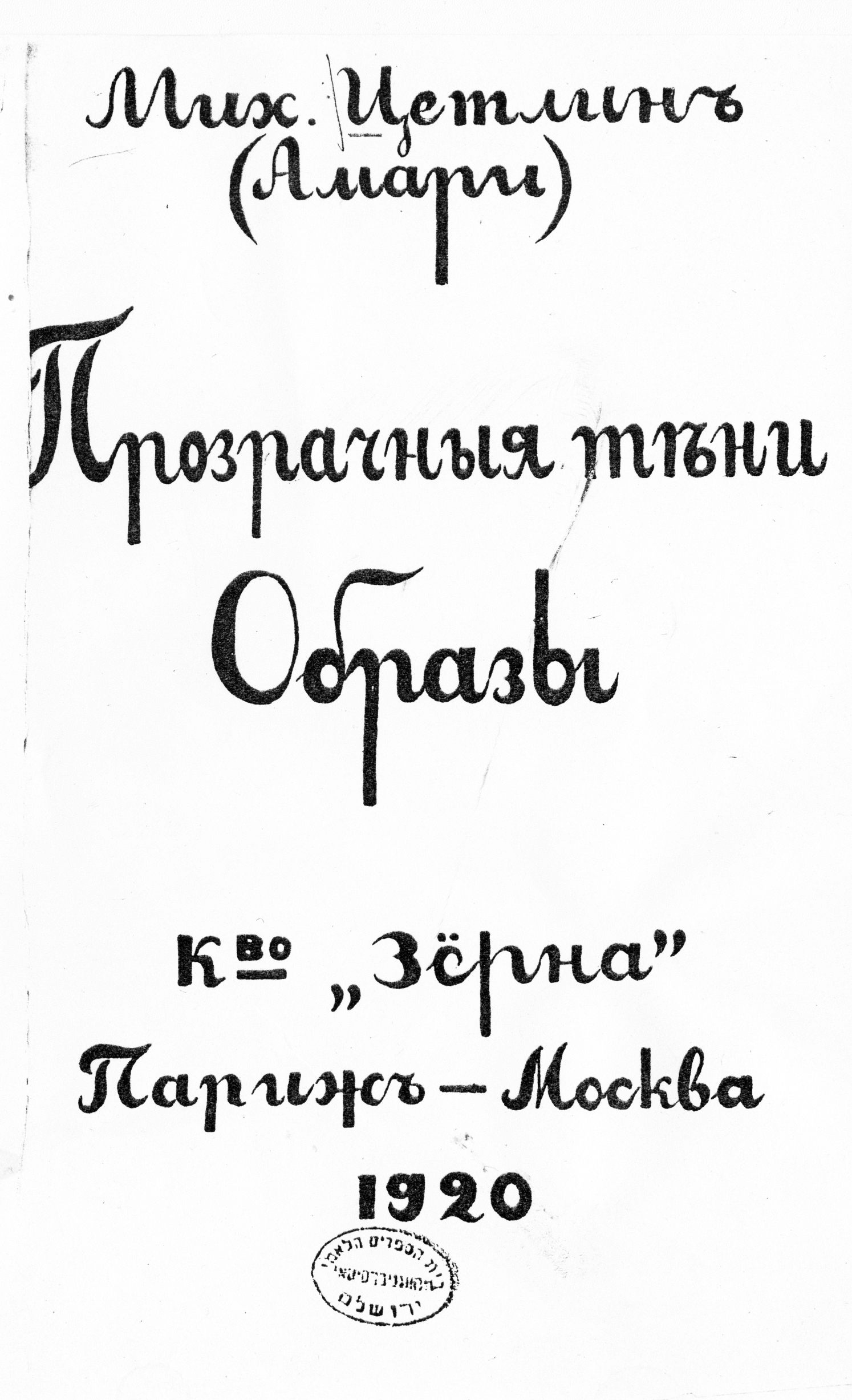
Самое любопытное, что при этом они исключали из них сравнительно более умеренного Толстого. Почему социалисты Цетлины повели себя столь парадоксально? Очевидно, потому, что декларируемой целью журнала было объединение разных политических лагерей внутри эмиграции. Причина охлаждения Цетлиных к Толстому была, как нам кажется, не политической.
Замышлявшуюся серию из шести томов постигла та же судьба, что «Грядущую Россию». 10 апреля Толстой опять упоминает о ней в письме к Ященко, но уже в разочарованном тоне: «С большим историческим изданием пока заминка из-за общеполитических дел – люди, обещавшие деньги, сами сейчас пока без денег[12].»
В том же письме то же самое сообщается и о журнале: «Журнал мы будем печатать в Германии, но пока опять все это время была задержка с деньгами…».
Возникает план писательского издательства на паях «Русская земля» – ведь в Париже уже собралось несколько крупных авторов, ранее связанных с московским Книгоиздательством писателей: Бунин, Куприн, Толстой. Толстой донельзя дружествен, полон планами сотрудничества, энергичен (и сетует, что нет энергичных людей, сплошные сопли и т. п.) Они с Буниным близки, как никогда до того. Деньги должен дать Цетлин – часть обещает дать Земгор:
Вчера Мих. Ос. [Цетлин – М. Г.], Толстой и Ян были вечером у Львова <…> Говорили об издательстве. <…> С маленькими деньгами начинать не имеет смысла. В Берлине затевается книгоиздательство, основной капитал 8.000.000 марок. Они хотят приготовить русские книги для будущей России. <…> Ян возражал, говоря, что можно и здесь устроить книгоизд[ательство], т. к. здесь можно собрать хороший букет из современ[ных] писателей. <…> Редакторами намечаются Ян, Толстой и Мих. Ос. <…>.[13]
Казалось бы, все прекрасно. В Берлине будет издательство И.В.Гессена[14], а в Париже – цетлинское. Но уже через два два дня Цетлин передумал. 19 апреля Вера Бунина записывает:
Вчера, очень волнуясь, Мих. Ос. сказал Яну, что он окончательно пришел к заключению, что не может принимать участие в книгоиздательстве. <…> М. С. <…> сказала мне, что причина Толстой. Но более подробно она ничего не объяснила.
После того мы решили пойти к Толстому на новую квартиру. <…> Ал. Ник. спал, но скоро проснулся. Мы рассказали об отказе М. Ос., он объяснил это тем, что Мих. Ос. испугался того, что слышал о немецком книгоиздательстве. [15]
Толстой явно не знал – или не хотел знать – что тот отказался от проекта из-за его участия. Выходит, что у него уже в начале 1920 г. отнюдь не было полного взаимопонимания с главной движущей силой всех парижских литературных затей – Цетлиными. Чем он их против себя настроил? Мемуаристы, наряду с общим осуждением его моральной нестойкости, упоминали и неаккуратность в отдаче долгов (и даже взятых на время вещей); все же, чтобы отвергнуть проект издательства, причина должна была быть более веской. Бунин, сотрудничавший в «Знании», проведший столько времени у Горького на Капри, впитал неписаный кодекс литературного поведения и не делал ошибок. По нашему предположению, именно в такой ошибке, сделанной Толстым, и лежит разгадка того, почему Толстой был вытеснен из больших парижских литературных проектов.
Цетлиных могли покоробить антисемитские нотки в Главе VII (впоследствии исключенной) «Хождения по мукам», где большевик Акундин вместе с поэтом Бессоновым выходят из дома сатанинского социолога и журналиста с вампирической внешностью по имени Юрий Давидович Елисеев. Семитское отчество этого персонажа указывается лишь в версии «Грядущей России». Уже при перепечатке вводных глав романа в приложении к первому номеру «Современных записок» Толстой антисемитские нотки снял. Мы вправе думать, что именно они были причиной закрытия «Грядущей России», журнала, где Толстой мог контролировать литературную политику, — поскольку журнал закрылся сразу после выхода второго номера, где появилась указанная глава[16].
Парижское кооперативное издательство «Русская земля» было организовано в 1920 г., на полиграфической базе Союза городов. Возглавлял издательский комитет «Русской земли» глава издательства Земгора Т.И.Полнер,[17] участвовали Бунин, Куприн, Мережковские, Бальмонт, Зайцев. В книгоиздательстве Земгора вышел единственный том серии «Русские писатели» под редакцией Бунина, посвященный 18-му веку – все, что осталось от первоначального многотомного плана серии. Но и в «Русской земле» руководящая роль досталась не Толстому, хотя переиздания двух его книг она все же выпустила.
Похоже, что Толстой ревниво отнесся к тому, что и в этом издательском проекте руководящая роль досталась не ему. Изгнанный из редакций, лишенный возможности публиковать роман, он отступил в детскую литературу: весной 1920 г. дописал «Никиту Шубина» (впоследствии «Необыкновенное приключение Никиты Рощина», вещь, по нашему предположению, начатую еще в Одессе); из-за этого рассказа произошла его бессмысленная ссора с Буниным, в подтексте которой — вся эта апрельская ситуация, видимо, для Толстого очень тяжелая:
Толстой сделал вчера скандал Т. Ив. Полнеру за то, что тот не мог дать ему сразу денег за рассказ «Никита Шубин», т. к. еще не было постановлено в Объединении, брать ли этот рассказ для беженских детей или нет <…>Ян после завтрака <…> возвращался с Поляковым[18] и Толстым. Толстой снова кричал, что он «творец ценностей», что он работает. На это Ян совершенно тихо:
— Но ведь и другие работают.
— Но я творю культурные ценности.
— А другие думают, что творят культурные ценности иного характера.
— Не смей делать мне замечания, — закричал Толстой вне себя, — Я граф, мне наплевать, что ты — академик Бунин. — Ян, ничего не сказав, стал прощаться с Поляковым <…> потом он говорил мне, что не знает, как благодарить Бога, что сдержался.
Тих. Ив. < Полнер — М. Г. >очень расстроен, не спал всю ночь. И правда, он всегда старался помочь писателям <…> и вдруг такое оскорбление. Ян, как мог, успокоил его. И прямо оттуда поехал к Тэффи на репетицию писательского спектакля. <…>
Когда пришел Толстой, он подошел к Яну и сказал: «Прости меня, я чорт знает, что наговорил тебе», и поцеловал его.<…>
Все это я записала со слов Яна.<…>
18 апр./1 мая.
Наш Светлый Праздник. Встретили мы его в церкви.<…> Сначала Толстые стояли от нас поодаль. Но после христосования они позвали к ним разговляться. <…>таким образом, окончательно помирились Ян и Алеша.[19]
Здесь характерен повод: издательский комитет еще не постановил, брать ли толстовский рассказ для детей беженцев, поэтому Толстой должен сидеть без денег. Он сведен на уровень безответного литературного пролетария, а «объединение», куда его не зовут, цензурирует его и решает, пригоден ли он для читателя. Речь вдобавок идет о рассказе для младшего возраста!

Летом писатель нашел себе нишу в детском журнале «Зеленая палочка», созданном его тогдашним приятелем Дон Аминадо: здесь и вышло его классическое «Детство Никиты» (1920), а в «Библиотеке «Зеленой палочки» тогда же появилось «Необыкновенное приключение Никиты Рощина» – как стал теперь называться рассказ «Никита Шубин».
Для 37-летнего автора, которого только что подхватил ветер успеха, резкое снижение в статусе и утрата престижа могли показаться катастрофой. Эмигрантские кружки – структуры закрытые, тяготеющие к застою; социальной мобильности там не было никакой, и вместе с надеждами убавлялись, соответственно, и финансы. Жизнь Толстых «на грани краха» в Париже упоминается во многих воспоминаниях – неодобрительно у Бунина, юмористически у Тэффи, драматически у самой Крандиевской и ее сыновей.
И у нее, и особенно у Ф.Ф.Крандиевского чувствуется некоторое напряжение в отношении Цетлиных. Создается ощущение, что Толстые не могут чего-то простить Цетлиным. Конечно, Толстой в конце концов узнал или догадался о том, что Цетлин не пожелал тогда создавать издательство из-за него. Конфликт как-то рассосался: с начала 1921 г. начинает выходить журнал «Современные записки», и Толстому дана была, наконец, возможность опубликовать в нем свой роман целиком (уже вышедшие в «Грядущей России» главы были напечатаны в приложении к первому номеру нового журнала). Однако, в руководство своим литературным проектом Цетлины все же его не позвали, несмотря на то. что с осени 1920 г. он стал вместо «Общего дела» печататься в близких им «Последних новостях».
Порча отношений всегда отражается в мелочах. Тут и история с пишущей машинкой, которая, по версии Цетлиных, ему одолжена и не возвращена, а по версии Крандиевского – подарена. Здесь и эпизод, записанный Буниной: Бальмонт во время визита Эренбурга рассказывает, как в Советской России он воровал сухари со стола с голода, Эренбург вспоминает, как сам он голодал в юности, не в России, а в Париже. «И часто, уходя из дому богатых людей после вечера, подбирал окурки, чтобы утолить голод, в то время как эти люди покупают книги, картины. –Ну, да мы знаем, кто это, – вставил Толстой, – это наши общие друзья Цетлины»[20]. Здесь и уязвленное замечание Крандиевской, что в эмиграции с голоду пропасть не дадут, а ходить в рваных ботинках дадут. Все вместе складывалось в картину достаточно унизительной зависимости. Весьма вероятно, Толстой почувствовал себя оттесненным на социальную периферию и испугался бесперспективного прозябания.
Конечно, не вошедшая в поговорку любовь к достатку, комфорту и т.д., а прежде всего честолюбие, жажда первенства подталкивали Толстого к поискам новой яркой роли, в которой он не имел бы соперников. Так и интерпретировал его сменовеховство Алданов, который дружил с Толстым в Париже, но не мог ему простить сменовеховства:
Мне более менее понятны и мотивы его литературной слащевщины: он собирается съездить в Россию и там, за полным отсутствием конкуренции, выставить свою кандидатуру на звание «первого русского писателя, который сердцем почувствовал и осмыслил происшедшее», и т.д. как полагается [21].
Возможно, именно Алданов способствовал тому, что роман Толстого был все-таки напечатан в «Современных записках». Прослеживается некая неравнодушность к Толстому с его стороны, например, 26 июня 1922 г. в первом номере парижской газеты «Слово» (под ред. С.Ф.Штерна, бывшего редактора «Одесского листка») он, отвечая на анкету, кто в эмиграции наиболее выдвинулся из писателей, начал свой список с Алексея Толстого. Похоже, что Алданов и концептуально был ближе к Толстому, чем к своим коллегам-эсерам. Безотрадная картина Французской революции, нарисованная Алдановым в романе «Девятое Термидора» (Берлин, «Слово» 1923), весьма схожа с толстовским «Дантоном».
Многие страницы в этом романе прочитываются как прямая реакция на сменовеховство: так, английский посланник граф Семен Романович Воронцов рассказывает герою:
Теперь вдобавок <…>появилось еще новое эмигрантское течение. Оно призывает к возвращению во Францию и к совместной работе с якобинцами. Но об этих господах и говорить не стоит, — сказал с презрением Воронцов. — Я не люблю ни эмигрантов, ни якобинцев; но кающиеся эмигранты,как и кающиеся якобинцы<…>, внушают мне совершенное отвращение… Вполне возможно, что эти господа и подкуплены, — якобинцы тратят большие деньги на развращение эмиграции.[22]
В направлении «гранитной глыбы». Вскоре выясняется, что на Толстого в свое время уже произвели патриотическое впечатление и польская кампания, и те эмигрантские импульсы к сближению и большевизму, которые впервые ощутимы стали в 1920 г. – пражский сборник «Смена вех», берлинская газета «Голос России». Оказывается, в 1920 г. его уже посещали мысли о переезде в Берлин, как то явствует из письма Толстого к его давнему другу А. С. Ященко от 16 февраля 1920 г.:
И ещё – Господь Бог сохранил меня от того, чтобы не кончить роман в октябре, ноябре. С тех пор я очень, очень многое понял и переоценил.
Я совсем согласен с тобой в твоем взгляде на Россию. Знаешь, к этому подходят теперь почти все. За один год совершилась огромная эволюция; в особенности в сознании тех, кто стоит, более или менее, в стороне. Те, кто приезжает из России, — понимают меньше и видят близоруко, так же неверно, как человек, только что выскочивший из драки: морда еще в крови, и кажется, что разбитый нос и есть самая суть вещей.
Когда началась катастрофа на юге, я приготовился к тому, чтобы самому себя утешать, найти в совершающемся хоть каплю хорошего. Но оказалось, и это было для самого себя удивительно, что утешать не только не пришлось, а точно помимо сознания я понял, что совершается грандиозное — Россия снова становится грозной и сильной. Я сравниваю 1917 год и 1920, и кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх. Конечно, в России сейчас очень не сладко и даже гнусно, но, думаю, мы достаточно вкусно поели, крепко поспали, славно побздели и увидели, к чему это привело. Приходится жить, применяясь к очень непривычной и неудобной обстановке, когда создаются государства, вырастают и формируются народы, когда дремлющая колесница истории вдруг начинает настегивать лошадей, и поди поспевай за ней малой рысью. Но хорошо только одно, что сейчас мы все уже миновали время чистого разрушения (не бессмысленного только в очень высоком плане) и входим в разрушительно-созидательный период истории. Доживем и до созидательного.[23]
Пассаж о тех, кто приезжает сейчас из России, особенно показателен. Только что прошла вторая эвакуация Одессы, и Толстого, уже несколько отдохнувшего и расслабившегося, раздражает экстремизм новичков, то есть Бунина.
Почему Толстой в феврале 1920 г. с ужасом писал, что мог ведь и кончить роман в октябре? Потому что в октябре 1919 г. добровольческая власть на юге, восстановленная в конце лета, еще казалось прочной. Эмигрантские писатели, в том числе Толстой, печатались в одесских газетах. Если бы Толстой закончил роман в октябре, его звучание было бы, конечно, иным, однозначно антибольшевистским. Но в начале 1920 г. все опять переменилось, судьба Одессы висела на волоске, и пережившие «первых большевиков» беженцы благоразумно не стали дожидаться финала. Гражданская война кончалась.
Уже осенью 1920 г. Толстой выражает новые свои настроения в печати: это рецензия на французский роман о России, «Нить Ариадны» Клода Ане[24] , в которой говорится:
Что будет с Россией, мы не знаем и ни предугадать, ни даже увидеть во сне не можем. Но если все сыны России будут верить в конечное добро ее, то как может оно не совершиться? Наоборот, если мы будем верить, что под каждым картузом красноармейца, под каждой заскорузлой мужицкой рубашкой, — грабитель и негодяй, что каждый, носящий кокарду белогвардейца,— погромщик и реакционер, что под каждым потертым пиджачком русского интеллигента бьется дряблое, заячье сердце, — то я спрашиваю: как может совершиться добро?[25]
Здесь еще к прощению противника призываются обе стороны. Очевидно, добро есть национальное примирение. Чтоб достигнуть его, Толстой заклинает своего читателя делать то же самое, что он устами своего героя Посадова призывал делать осенью 1918 г.: верить, ср.:
Если у большевиков до сих пор была сила, то это сила веры в свою конечную победу над миром, то есть в торжество того. что они считеют высшим добром. Если у белых до сих пор была слабость, то это слабость, проистекающая от некоторого отвращения к современной России, ко всему народу, совершившему злое дело распадения; в движении белых была вера в победу, в устройство правового порядка; но этого мало, — должна быть беспорочная вера в Россию, в ее высокую Правду.
Конечно, дело в вере. Но и вера требует так называемой «почвы под ногами». Боже мой, как нетрудно найти эту почву! Россия живет не только эти три года, и живое ее тело раскинуто на сотни лет по ту и другую сторонну сегодняшнего мгновения. Если добро в непрерывном создании космоса, а зло — в распадении и хаосе, то не нужно больших усилий, чтобы в жизни России найти себе не только почву, — но доброкачественную гранитную глыбу, — упереться в нее обеими ногами.
Однако призыв Толстого направлен прежде всего к эмиграции, которая повинна в некотором отвращении к современной России. Трудно отделаться от мысли, что острие толстовской полемики направлено против Бунина с его «Окаянными днями». Характерная деталь: «почве» народолюбия Толстой явно предпочитает здесь «гранитную глыбу», извечный образ русской государственности.
Действительно, тем временем государственная мощь новой России, столь важная для Толстого, всё крепла; раздваиваясь, как и все в его кругу, между радостью, вызванной укреплением России и ненавистью к большевикам, он возлагал большие надежды на Кронштадтское восстание. Большевики удержались, но введение ими новой экономической политики весной 1921 г., казалось, обещало возврат к нормальному состоянию: в перспективе замаячило национальное примирение. Границы больше не были герметически закрыты. Русские потянулись за границу. Однако приехавшие сразу же принялись рассказывать ужасы о происходящем в Советской России. Власти всполошились и решили больше никого не выпускать. Все лето 1921 года на верхушках идёт обмен письмами по вопросу, выпускать ли тяжело больного Блока. Наконец в конце июля происходит перелом. Политбюро разрешает Блоку выезд – правда, он уже не может им воспользоваться. Разрешение получает и Сологуб, но не уезжает, потому что, измученная ожиданием, кончает с собой его жена.
С мая 1921 г. в переписке между М. И. Бенкендорф и Горьким обсуждается выезд последнего за границу на лечение. Мария Игнатьевна мечтает о работе в Берлине, в одном из издательств – Гржебина[26] или Ладыжникова[27] (З.И. Гржебин пока в Петербурге, но организация уже идет). В июле становится ясно, что в России голод, работа Горького по организации Комитета помощи голодающим отодвигает эти планы; но после ареста ведущих деятелей комитета оскорбленный писатель возобновляет приготовления к отъезду и 21 октября отдельным вагоном, вместе с Гржебиным, его и собственной семьей отправляется в Германию, чтобы обосноваться в Берлине. Бенкендорф, которая выходит замуж и становится баронессой Будберг, также вскоре снимет квартиру в Берлине. Горький же официально, постановлением Политбюро от 21 декабря 1921 г. включен «в число товарищей, лечащихся за границей. Тов. Крестинскому поручается проверить, чтобы он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой»[28].
В сентябре разрешен был выезд горьковскому фактотуму А. Н. Тихонову[29] для организации печатания книг. Издательство «Всемирная литература», которое он тогда возглавлял, получило два с половиной миллиона марок в виде оборотных средств. Так закладывались основы берлинского книжного бума 1922–1923 гг. Горький почти сразу же написал Ленину о низком уровне советских официозных изданий:
Следовало бы устроить в Берлине выставку русского искусства за время революции,— это будет иметь серьезное значение. И затем следует подумать: зачем, для кого издаются за границей советские газеты на русском языке? Стоят они огромных денег, кормится около них куча безграмотных лентяев — в этом, что ли, смысл их бытия? Белые издеваются над ними, и есть за что.[30]
Несомненно, должен был встать вопрос о более привлекательной и квалифицированной альтернативе этим изданиям.
В очерке А.В. Амфитеатрова «Рептильная вербовка» («Руль», 1922, 18 января) рассказывается о попытке Наркоминдела еще в последние летние месяцы 1921 г. организовать ряд квалифицированных, якобы беспартийных, а на деле зависимых материально и идеологически контролируемых периодических изданий в Финляндии, Прибалтике, Праге и т.д. Человек, вербовавший Амфитеатрова и хваставшийся уже согласием чуть ли не десятка крупнейших авторов, был бывший эсер К.А. Лигский (1882-1931), именно в конце лета 1921 г. получивший назначение на консульский пост в Варшаве.
По версии Амфитеатрова, центральную роль в этом плане играл Михаил Кольцов, тогда молодой журналист, который в 1920 г. был редактором иностранной радиоинформации Наркоминдела, а в 1921 г. – заведующим информационной частью в Петрограде и членом агиттройки при ПК РКП.
. Не было ли частью этой глобальной акции по разложению все еще сопротивлявшейся литературной верхушки и в России, и в эмиграции, некое — гипотетическое — предложение, сделанное Толстому как раз тогда, когда он готовил к печати заключительные эпизоды своего романа — в июле 1921 г.? Как, когда и кому пришла в голову мысль присоединить Толстого к литературно беспросветному предприятию «Смены вех»? В группе сменовеховцев единственной ярким автором был Устрялов, живший в Харбине, далеко от остальных, – и в ней не было ни одного одарённого литератора.
В поисках материалов, способных пролить свет на обстоятельства «обращения» Толстого летом 1921 г. в сменовеховскую веру, надо присмотреться все-таки к тому общему, что несомненно сближало его с остальными сменовеховцами. Кажется, что их сходство, живое и современнику очевидное, а нам уже не слишком понятное, запечатлено в редакционной (т. е. подписанной самим Милюковым) статье «Недоразумение» в «Последних новостях», – отклике на появление сменовеховства. Толстой переехал в Берлин в ноябре 1921 г. – несомненно, имея в перспективе сотрудничество со сменовеховцами, а статья Милюкова появилась 15 ноября[31]. Она представляет собой возмущенный отклик на интервью, данное В.Н.Львовым[32] газете «L’Etre Nouvelle», характеризуемой здесь как газета радикальной интеллигенции. Милюков обращает внимание читателя на неувязку между заявленными стремлениями Львова спасти революцию от реакции – и его реальными действиями в революционной России:
Будучи помещенными на страницах русской печати, рассуждения В.Н. Львова не заслуживали бы того, чтоб на них серьезно останавливаться. Человек политически крайне неустойчивый, болезненно импульсивный, г. Львов не может представлять никакой вообще серьезной политической мысли. Один из тех, кто в августе 1917 года, никем на то не уполномоченный, хотел задавить «революцию» руками ген. Корнилова – вряд ли г. Львов имеет право ныне говорить от лица этой самой революции.<…> Нам приходится указать, что деятельность г. Ключникова в правительстве адмирала Колчака не отличалась особым «либерализмом», подтверждением чему могут служить документы, хранящиеся в Париже.
Редакция вычерчивает политический профиль сменовеховства – это профиль государственников, националистов и никак уж не демократов:
Если бы мы захотели определить политическую физиономию «приставших», – нам нетрудно было бы убедиться, что Бобрищев-Пушкин[33], Львов, Лукьянов, Ключников и пр., к большевикам попали, так сказать, по атавизму. Начинали они свою карьеру сторонниками белой деспотии, ныне переходят на сторону защитников красной деспотии, чтобы – при изменившихся условиях – возвратиться вновь, быть может, к белой деспотии. <…>
Реакция – белая или красная – имеет свою логику, и большевизм, как выражение реакции, естественно притягивает к себе людей, воспитанных на преклонении перед физической силой.
<…> Коллективный Бобрищев-Пушкин с его жаждой веревки для революционера (в домартовский период) и Бобрищев-Пушкин, с его апологией уничтожения буржуазии (в период настоящий), остается верен себе при всех обстоятельствах.
Вывод: не «левые либералы», а типичные реакционеры, которые уважают только грубую силу всякой власти, не брезгующей держать народ в подавлении.
Это крупные профессионалы-управители из дворян, люди моложе средних лет, только что сделавшие карьеру, когда настала революция, и нуждающиеся в твердой власти, чтобы прерванную карьеру продолжить. Еще острее впечатление от первых деклараций сменовеховцев передает статья П. Рысса «Братальщики»[34] в тех же «Последних новостях»: здесь на переднем плане не просто антидемократический стиль сменовеховцев, а шокирующе авторитарный стиль старого дворянского собрания, воскрешенный в обход всех демократических и социалистических сдвигов, от которых средний русский ни в России, ни в рассеянии отказаться пока готов не был – в отличие от этих крупных, родовитых и амбициозных экземпляров:
На лекции бывшего обер-прокурора Св. Синода В.Н. Львова было шестьдесят четыре человек, включая сюда лектора и клакеров. Пришло десятка полтора людей с низкими лбами и остановившимися глазами: они обещали «бить морду» всем, кто смеялся. А смеялся весь немногочисленный зал.
У лектора зычный голос и самоуверенные манеры: словно человек только-что плотно позавтракал, выпил для порядку рюмок пятнадцать зубровки и теперь в дворянском собрании произносит речь о вреде народного просвещения…
В.Н. Львов, вероятно, как бывший обер-прокурор, знаком с историей церкви, но в прочих материях он невинен, как дитя. Говорил он обо всем: о государстве, о власти, об экономике, об истории, о философии. Из этого набора слов понять можно было только одно, что В.Н. Львов во всем этом смыслит очень мало и очень плохо. Но апломб – потрясающий! Прямо – оратор из дворянского собрания!
Смысл всего этого детского лепета: большевики – есть законая власть, которой надо подчиниться беспрекословно. Народ многого еще не понял, народ ведь у нас не такой ученый, как Львов… Надо, значит, устраивать государство самим…
– Кто может народу дать свободу?
И бывший обер-прокурор гремит:
– Только законная русская власть, т.е. большевики!
– Кто может объединить Россию?
И опять дворянский громоподобный голос:
– Только большевики!
Всё – большевики. Почему – неизвестно. Доказательство не нужно: достаточно, что В. Львов декретирует.
Говорил он и об империалистах Западной Европы, говорил и о кознях русской буржуазии. Всё, как полагается тыловому братальщику.
И было стыдно тем нескольким человекам, которые сидели в зале. Было стыдно не только того, что пожилой человек, приличного воспитания и некоего прошлого, болтает невежественный вздор. Было стыдно, что, быстро перекочевав в лагерь большевиков, этот человек усердствует во всю, не брезгуя измышлениями и ложью. Мне казалось, что всех нас бьют по лицу; это было ощущение стыда, доходившее до физической боли.
Главное в этих людях – это принадлежность к некоей элите, попробовавшей предложить новой власти свое профессиональное умение быть элитой, как несколько ранее сделало русское высшее офицерство. Здесь много точек пересечения с Толстым: дворянство, прерванная в расцвете сил карьера, идентификация с русской государственностью, и, разумеется, авторитарная замашка, неприятие элитой насильственного равенства, –отсюда вера, что сильная власть воссоздаст естественную иерархию, которая понимается как условие здорового развития.
«Обращение» Толстого. В мае 1921 года в Париж негласным послом новой, большевистской культуры приехал Эренбург. Бывшие друзья встретились – эта встреча многократно описана в разнообразных мемуарах. У Эренбурга сказано:
Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать, а милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал: «Ты, Илья, там набрался ерунды…» Как только я говорил, что выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской[35].
У пасынка Толстого, Ф. Ф. Волькенштейна (Крандиевского), говорится об этом так:
Эренбург обедал у нас и рассказывал про теперешнюю Москву во влюбленном и романтическом тоне. После его ухода отчим (А. Н. Толстой) сказал маме:
– Он, наверное, большевик.
На другой день нам стало известно, что французские власти предложили Эренбургу в 24 часа покинуть Францию.
– Я тебе говорил! – сказал отчим маме[36].
То же самое событие описывается, однако, несколько иначе в очерке А. Ветлугина «Последняя метель»:
Теперь человек в огромной шляпе взял новое комиссионное поручение – поссорить зарубежных писателей с писателями, оставшимися там, за великой китайской стеной. С той же старательностью, с теми же нанятыми слезами, под ходульными косноязычными заголовками, изобретая никогда не сказанные слова, выдергивая отдельные двусмысленные пассажи, он плачет, вопит, бьет себе в грудь. В 1917 он молился о спасении России от большевиков, теперь он хочет, но не смеет, пытается, – но виляет, – молиться о спасении большевиков от России…
«… Метро – величайшее изобретение западной цивилизации. Все это я любил, все это было мне близко и дорого, но все это гниет, зреет в России суровая культура» и т. п. – с кривляньями, с истерикой, засыпая пеплом собственную грудь, чужой ковер, лицо собеседника, гнусавил он в Париже на квартире у одного здорового писателя.. Писатель теперь ходит по знакомым и спрашивает: нельзя ли без Ильи Эренбурга?[37]
Ветлугин, очевидно, знал Эренбурга еще в Москве, но возможно, имел случай ближе познакомиться с ним во время совместной работы в Ростовском Осваге. Нет ни малейшего сомнения, что «здоровый[38] писатель», здесь описанный, – это Толстой, с которым Ветлугин сотрудничал в «Общем деле» Бурцева. Им, как мы увидим далее, еще предстояло сблизиться на общей почве сменовеховства. Итак, согласно Ветлугину, тогда, в конце мая 1921-го Толстому не понравился новый тон Эренбурга, причем не понравился гораздо больше, чем то, как это передается в мемуарах последнего. Но Ветлугин не присутствовал на этом вечере у Толстых; не сгущает ли он краски, подгоняя поведение Толстого под удобное ему истолкование? Может быть и сам Толстой постфактум несколько сдвинул акценты в своих рассказах об этом визите?
Вера Бунина совершенно иначе описывает встречу Толстых с Эренбургом. По ее ощущению, Толстые обрадовались ему, они вовсе не были шокированы, наоборот, находились – особенно Крандиевская – под большим впечатлением от его рассказов. Получается, что правильнее всех запечатлел этот эпизод чуткий и умный пасынок Толстого, Ф.Ф. Волькенштейн (Крандиевский). Толстой сперва проникся прежней любовью и сочувствием к Эренбургу, а потом уже начал размышлять о том, с какой позиции тот теперь выступает.
Бунина записала 27 апреля (10 мая) 1921 г. :
Вечер мы провели с Эренбургом. Вид у него стал лучше. он возмужал. Кроме нас, был приглашен только Ландау (т.е. Алданов – Е.Т.). Сначала Эренбург рассказывал все спокойным повествовательным тоном. Неожиданно пришел Бальмонт, который тотчас же сцепился с ним.
Бальмонт: У большевиков во всем ложь!<…>
Очень трудно восстановить ход спора между Бальмонтом и Эренбургом, да это и не важно. Важно то, что Эренбург приемлет большевиков. Старается все время указывать на то, что они делают хорошее, обходит молчанием вопиющее. Так он утверждал, что детские приюты поставлены теперь лучше, чем раньше. – В Одессе было другое, да и не погибла бы дочь Марины Цветаевой, если бы было все так, как он говорит. Белых он ненавидит. По его словам, офицеры остались после Врангеля в Крыму главным образом потому, что сочувствовали большевикам, и Бэлла Кун расстрелял их только по недоразумению<…>[39]
У Буниной явление Эренбурга в новой роли вызывает бесчисленные вопросы:
Почему же, если так там хорошо, он уехал за границу? И окуда у него столько денег, ведь в Москву он явился без штанов в полном смысле слова? Неужели скопил за 5 месяцев? И как его выпустили? Все это очень странно…<…>
Он очень хвалил Есенина. превозносил Белого. <…> Потом он читал свои стихи. <…> Писать он стал иначе. А читает все так же омерзительно. Толстые от стихов в восторге, да и он сам, видимо, не вызывает у них отрицательного отношения.
Итак, Толстые рады гостю и в восторге от стихов. Вере все это не нравится, и она подозревает хозяев вечера в неискренности:
<…> Вообще, Толстые делят людей на нужных и ненужных, и нужных оберегают от мнимых соперников[40].
Смысл этой ревнивой реплики явно в том, что новый Эренбург показался Толстым нужным человеком – нужнее, чем Бунин. Справедлива ли такая оценка? Или Бунину вспомнилось старое, весны 1918 г., соперничество с Эренбургом за Толстого?
Пытаясь восстановить обстоятельства втягивания Толстого в сменовеховское движение, нельзя пройти и мимо известного эпизода в мемуарах Дон-Аминадо, где рассказывается о том, как в мае 1921 г. Ключников читал свою пьесу «Единый куст»[41] в присутствии Бунина, Куприна, Толстого, Алданова, Эренбурга, Ветлугина и самого мемуариста, и о том, как бурно отреагировал на нее Толстой:
Больше всех кипятился и волновался Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно прав, что дело не в пьесе которая сама по себе бездарна, как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли.
Ибо пора подумать, орал он на всю улицу, что так дальше жить нельзя, и что даже Бальмонт, который только что приехал из России, уверяет, что там веет суровым духом отказа и тяжкого, в муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение…[42]
Однако, как мы уже убедились, Бальмонт, покинувший Россию не «только что», а предыдущим летом, в действительности не восхвалял суровый дух строительства – это делал Эренбург, только что приехавший из России, – а по мере сил его опровергал. Если верить Дон-Аминадо, Толстой по дороге домой после чтения пьесы бурно пытался выразить именно те идеи, которые проповедовал Эренбург, о суровой культуре отказа и гибели гнилого Запада – но приписывал их Бальмонту. Он явно отводил внимание от роли Эренбурга в своем «прозрении».
Это подтверждает наше предположение, что для Толстого его встреча с Эренбургом и погружение в идеологию сменовеховства – единый процесс.
Н.В. Крандиевская
Семейный кризис?
Но несомненно было и что-то другое, какой-то личный разлад. Толстой был среди людей, Наталья Васильевна, занимавшаяся домом и детьми, видимо, чувствовала себя заброшенной – и окружила себя поклонниками. Мой отец вспоминал, что одного из них, бывшего актера МХТ, настолько привыкли видеть сопровождающим ее с младшим сыном на прогулках, что принимали его за отца Никиты. В. Н. Бунина пишет, что Крандиевскую пьянил успех, что в начале 1921 г. имели место размолвки и ссоры ее с Толстым:
23 янв./5 февраля.
<…>Вчера был Толстой. Пришел расстроенный. Я спросила, не случилось ли что? Нет, ничего. <…>в конце концов, он развеселился, хотя перед уходом я опять заметила у него блеск ужаса в глазах. Сегодня была Наташа и рассказала, что вчера они поссорились: был день ее рождения, а Алеша не поздравил ее и весь день его не было дома<…> Обедала она с Балавинским[43], ужинала со Шполянским. <…>Наташа похорошела, ее пьянит успех. <…>Есть муж, заботящийся о хлебе насущном, не мучающий ее ревностью.[44]
За год до того Бунин ездил с Крандиевской в Дьепп – искать виллу для обеих семей на лето. Но, записала Вера, «вкусы у них расходятся. Да и мне кажется, что с Толстыми нам будет трудно жить»[45]. Наверно, легкомысленное отношение обоих к семейной жизни пугало Буниных – об этом говорит в своей книге о Бунине О. Михайлов, очевидно, читавший дневники в подлиннике, без бессмысленных и беспощадных купюр.[46] И в 1921 г. Бунины не откликаются на призыв Толстого присоединиться к ним в Камбе, а предпочитают поселиться в Висбадене с Мережковскими. На фоне любовных драм, которые потом разыграются в Грассе, Бунины-моралисты выглядят забавно.
Итак, Наталья Васильевна была глубоко недовольна собой. Мы с удивлением читаем в дневнике Буниных, что именно Крандиевская (видимо, терзавшаяся мыслями о своих родителях и сестре, оставленных в Москве и бедствующих), первая вняла проповеди Эренбурга о том, что в России творится новая культура, и жить надо там: она, несомненно, и толкала Толстого к возвращению:
Когда, уходя, я сказала Наташе, что Эренбург рисует жизнь в России не так, как есть, она вдруг громко стала говорить:
– Нет, лучше быть в России, мы здесь живем Бог знает как, а там жизнь настоящая. Если бы я была там, я помогала бы своим родителям таскать кули. А тут мы все погибаем в разврате, в роскоши.
Я возразила – живем мы здесь в работе, какая уж там роскошь![47]
Бунины на этот счет имели весьма неодобрительное мнение: «То, что говорит Эренбург, душа принять не может», – сказал Иван Алексеевич. Ему вторит Вера: «А Толстые этого не понимают… И Наташины тирады насчет подлой жизни здесь очень противны. Кто им велит здесь вести такую жизнь, какую они ведут?»[48]
О недовольстве собой Крандиевской — и о горечи, с которой эта молодая женщина переживала свою невстроенность в окружающую ее художественную жизнь — можно заключить и из ее неоконченной поэмы «Дорога на Моэлан» (писалась в 1921 г., была дописана в 1956 г.), полной ностальгии по творчеству, неверия в себя и зависти к тем, кто сумел реализовать себя:
Всю мишуру настало время сбросить
На этом диком, голом берегу…
К столу избранников меня не просят….[49]
Героиня с жадностью глядит на полнокровную, раскрепощенную жизнь французской интеллигенции, и задумывается о возможности для себя любви. Однако, поэма посвящена ее отказу от этого соблазна :
Я слишком замужем. И наконец,
Я слишком у иронии во власти
На этом фоне стихи Крандиевской, описывающие следующее лето, 1921 г., проведенное в Камбе близ Бордо, в имении Земгора, полны пробуждающейся энергии – это, может быть, лучшие ее стихи. Несомненно, за ними сильное чувство, от них идет дух того самого своеволия, который Толстой так любовно и боязливо изображал в своей романной Даше. Героиня напоминает о своем буйном нраве:
Мне воли не давай. Как дикую козу,
Держи на привязи бунтующее сердце.
Чтобы стегать меня — сломай в полях лозу,
Чтобы кормить меня — дай трав острее перца.
Веревку у колен затягивай узлом,
Не то, неровен час, взмахнут мои копытца
И золотом сверкнут. И в небо напролом…
Прости, любовь!.. Ты будешь сердцу сниться…
Июль 1921. Камб. [50]
Сюжет этой маленькой стихотворной новеллы продуман автором до деталей. Встреча любящих запоздала и поэтому видимо бесперспективна. Но скрытая, подавленная, невозможная любовь, тем не менее, мучительно прорастает и грозит роковыми последствиями:
ГАДАНЬЕ
Горит свеча. Ложатся карты.
Смущенных глаз не подниму.
Прижму, как мальчик древней Спарты,
Лисицу к сердцу моему.
Меж черных пик девяткой красной,
Упавшей дерзко с высоты,
Как запоздало, как напрасно
Моей судьбе предсказан ты!
На краткий миг, на миг единый
Скрестили карты два пути.
А путь наш длинный, длинный, длинный,
И жизнь торопит нас идти.
Чуть запылав, остынут угли,
И стороной пройдет гроза…
Зачем же веще, как хоругви.
Четыре падают туза?
Июль 1921. Камб. [51]
Следует двойчатка стихотворений о грехопадении – озорное первое, радостно и дико приветствующее соблазн, и удивительное, трагическое второе:
Такое яблоко в саду
Смущало бедную праматерь,
А я, — как мимо я пройду?
Прости обеих нас, создатель!
Желтей турецких янтарей
Его сторонка теневая,
Зато другая — огневая,
Как розан вятских кустарей.
Сорву. Ужель сильней запрет
Веселой радости звериной?
А если выглянет сосед —
Я поделюсь с ним половиной.
Сентябрь 1921. Камб. [52]
Яблоко, протянутое Еве,
Было вкуса — меди, соли, желчи,
Запаха — земли и диких плевел.
Цвета — бузины и ягод волчьих.
Яд слюною пенной и зловонной
Рот обжег праматери, и новью
Побежал по жилам воспаленным
И в обиде божьей назван — кровью.
Июль 1921. Камб. [53]
Вместо финала – печальный постскриптум, написанный той же осенью в Берлине: влюбленные разлучены, с ним другая, – это брак:
ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС
Недаром пела нам гитара
О роковой, о нежной встрече.
Опять сияньем и угаром
Цыганский голос давит плечи.
Глядеть на милое лицо
Твое, ах, лучше бы не надо.
Другое на руке кольцо,
И новый голос плачет рядом.
Но тот же ты, и та же я,
Пускай полжизни бури взрыли.
Ах, ты да я… Ах, ты да я…
Мы ничему не изменили.
Ноябрь 1921. Берлин. [54]
Кто стоит за этими стихами? Цыганистый красавец с гитарой Михаил Бакунин[55], один из управителей камбского имения, о котором вскользь упоминает Крандиевская в главе «Лето в Камбе»? Не испугался ли Толстой, что продолжение парижской жизни может, помимо всего прочего, еще и угрожать его браку?

М.А. Бакунин
Этот подспудно пульсирующий сюжет окрашивает в неожиданные цвета известный эпизод воспоминаний Крандиевской, рассказывающий о семейной ссоре, сопровождавшей чтение ей заключительных глав «Хождения по мукам» (см. выше, в гл. «Конец романа»). Наверняка эмоциональный фон ссоры был связан с напряжением, в то время неминуемым между супругами. Мы до сих пор не знаем ничего о любовной жизни Толстого в Париже, кроме того, что Крандиевская недовольна была жизнью, которую они вели — то есть, которую он ей навязал. Вполне возможно поэтому, что Толстой, вернувшийся из Парижа и привезший оттуда некий «случайный», то есть только что сымпровизированный, неизвестный ей конец, вызвал ее двойную ревность — женскую и литературную. Я предположила выше, что драматизм этой семейной сцены отражал травматическое решение Толстого — отказаться от окончания романа Октябрьским переворотом.
Переезд в Берлин и «Накануне». Мы все еще не знаем точно, как было принято решение. Несмотря на многократное цитирование нижеприведенного письма Толстого жене, непонятно, с кем вел переговоры Толстой и что ему было обещано:
Жизнь сдвинулась с мервой точки. В знакомых салонах по этому поводу переполох. Это весело. Я сжигаю все позади себя, — надо родиться снова. Моя работа требует немедленных решений. Ты понимаешь категорический смысл этих слов? Возвращайся. Ликвидируй квартиру. Едем в Берлин, а если хочешь, то и дальше. [56]
Работа требовала немедленных решений, очевидно, в том самом смысле, что «все стало неясным» и Толстому нужно было укрепиться на той или иной отчетливой платформе, чтобы продолжать начатые литературные проекты. Интересно здесь выражение «если хочешь, то и дальше», подтверждающее версию о Крандиевской как движущей силе поступка Толстого.
(Совершенно, однако, не известно, не направлял ли ее эмоции и желания кто-то посторонний, например старик С.А.Скирмунт[57], традиционно близкий ее родителям и наверняка занявший ее сторону в предполагаемом семейном конфликте. Скирмунт, когда-то крупно поддержавший большевиков и вскоре разорившийся, переехал еще до войны в Париж и стал успешным парижским предпринимателем; степень его тогдашней независимости от большевиков также совершенно не известна).
В конце октября Толстые выезжают из Парижа, едут медленно. задерживаясь для отдыха в пути. В начале ноября они в Берлине. Приехав с семьей, Толстой снимает две комнаты в пансионе на Курфюрстендамм, но вскоре отправляет жену с детьми во Фрейбург (в курортном маленьком городке жизнь не в сезон была дешева), а сам отправляется в Мюнхен — заключать договоры на перевод своих книг и работать с переводчиком, А. Элиасбергом. Никто и никогда не задавал вопроса, почему Толстые несколько первых берлинских месяцев прожили на два дома. Это могли быть соображения денежные: уезжали они в стесненных обстоятельствах, набрав долгов. Толстой возлагал какие-то надежды на доход с пьесы «Любовь – книга золотая», которую весною 1922 г. должны были поставить в Париже в престижнейшем театре «Старая голубятня». Кроме этого, надеяться было не на что.
Есть мнение, что Толстой имел случай пересечься в Берлине с недавно поселившимся неподалеку, тоже на Курфюрстендамм, Горьким, проведшим в Берлине ноябрь – до своего отъезда в Швейцарию в санаторий.[58] С другой стороны, Н. Примочкина считает, что это предположение основано на ошибочных датировках.[59]
Мы мало знаем об этих первых берлинских месяцах, кроме того, что в ноябре 1921 г. Толстой участвует в организации берлинского Дома искусств. Ноябрем датировано очень важное, программное стихотворение Крандиевской, из которого явствует, что, несмотря на евангельскую риторику в адрес русской революции, никакого энтузиазма по поводу возвращения в Россию на тот момент у Толстых не наблюдалось. Стихи эти отразили семейную утрату – потерю грудного ребенка сестрой Наталии Надеждой Васильевной Крандиевской, остававшейся, как мы помним, в голодной Москве. Стихи проникнуты страхом перед собственным будущим, поставленным теперь в зависимость от того страшного и нового, что творилось в России:
Не голубые голуби
Спускаются на проруби
Второго Иордана.
Слетает вниз метелица,
Колючим вихрем стелется,
Свивает венчик льдяный.
И рамена Крестителя
Доспехами воителя,
Не мехом сжаты ныие.
Горит звезда железная,
Пятиугольной бездною,
Разверстою пустыней.
Над голой кожей зябкою
Лишь ворон черной тряпкою
Взмахнет и отлетает.
Новокрещен морозами,
Дрожит младенчик розовый,
Дрожит и замерзает.
Берлин, ноябрь 1921. [60]
Семья Толстого возвращается в Берлин в середине зимы, некоторое время все они помещаются в двух комнатах, а в начале февраля Толстой уезжает в поездку в Ригу, Таллин и Ковно, где выступает с чтением своих новых произведений. Его чтение пьесы «Любовь – книга золотая» имеет успех.
Этот его визит, о котором не упоминалось в толстовских биографиях, подробно отражен в рижской прессе. Газета «Сегодня» сообщала 2 февраля:
В понедельник, 6 февраля, в зале Малой Гильдии, известный писатель гр. Ал. Ник. Толстой выступит с чтением своих произведений. В программу вечера талантливый беллетрист включит отрывки из своих пьес и повестей, а также ряда неизданных еще рассказов. Последней большой работой писателя был роман «Хождение по мукам», напечатанный в парижских «Современных Записках». Сюда граф Ал. Толстой прибывает из Ковно[61].
Седьмого февраля, после вечера, хроника «Сегодня» оповестила читателей:
Вчера утром приехал граф Алексей Толстой. Писатель из Риги проедет в Эстонию, потом в Берлин. Сегодня в нашей газете начнется печатанием предоставленный писателем для нашей газеты ряд очерков А. Толстого. Это – отражение последовательных переживаний в России, на море, в Константинополе и Париже. Общее заглавие очерков: «Четыре картины волшебного фонаря»[62].
Петр Пильский не поскупился на похвалы Толстому в своей рецензии:
Какая прелесть тонкой и красивой литературности! Как мягко, без подчеркиваний, легко читает Толстой! Написанная в темные дни русской смуты, вся эта пьеса «Любовь – книга золотая» – светла, как майский день, полна юмора, улыбок, лиризма, вызывает веселый смех, играет всеми радостями искусства[63].
Кроме того, его «Касатку» поставили в Рижском русском драматическом театре, где теперь играла Е.Жихарева (с которой они делили первые эмигрантские тяготы на острове Халки) и целый ряд артистов из Малого театра; Толстой встречается с труппой и сам очень удачно в своей пьесе играет Желтухина. Об этой постановке сообщает рецензия «Единственный (Единственный оседлый русский зарубежный театр)» в берлинском журнале «Театр и жизнь» за подписью «Рюбанпре»:
Из всей блестящей, но рассыпанной книги, называвшейся «Российский театр», пока удалось поднять и слепить одну-единственную главу.
Это – русская драма в Риге. <…> и в Риге, уступая требованиям многочисленной публики и артистов, граф Алексей Ник. Толстой совершил довольно редкий в истории современного театра tour de force. Самолично выступил в роли Желтухина в пьесе «Касатка», шедшей в русской драме. «Струсил я, — рассказывает А.Н.Толстой – невероятно. Артисты играют превосходно, ансамбль отличный, все наши либо из Малого, либо из Александринки. Ну, думаю, зарежу и их и себя. Но тут, понимаете, странная штука вышла. Как на войне от робости на проволоку лезешь, так и я струхнул было, зато так постарался, что вышло будто не плохо. Актеры поздравляют, а публика прямо с ума посходила…»По окончании спектакля, на котором присутствовали члены местного правительства и иностранные миссии во главе с графом де-Мартель, состоялся банкет при участии видных представителей русской и латвийской общественности. Поссле речей артиста Муратова, — с достоинством несущего тяжкую особенность представлять русское искусство, — членов учредительного собрания и членов редакций латвийских газет – граф А.Н.Толстой ответил небольшой речью, в которой подчеркнул значение русских актеров за рубежом в эти тяжкие годы[64].
Рижская «Сегодня» тогда же напечатала и рассказ Толстого «Четыре картины волшебного фонаря»: «Черный призрак», названный «гл. 1» вышел в № 30 (7.02), 1922; «Картина вторая. Чужой берег» в № 31 (8.02); «Картина третья. Галстучные булавки» (впоследствии «Галстучная булавка») – в № 32 (9.02).
Первый, военный эпизод написан в той поэтике, которая у моего поколения ассоциировалась прежде всего с «Белой гвардией» Булгакова, — созданной, однако, позднее, и как кажется, не без влияния этой вещи Толстого. Бегство через проходные дворы и перелезание в другой двор очень напоминают бегство Турбина. Участие в эпизоде странных «детей подземелья» и легкость, с которой герой принимает обличье «красного», придают рассказу черты сновидения. Это, однако, та самая легкость, которую предстоит развить в себе Толстому в ближайшее время…
В второй «картине», описывающей бурю и кораблекрушение, упоминаются черные начетчики – подчеркивается антисемитская аллюзия из конца первого эпизода. «Ноев ковчег», «черт», которому досталась Россия, кресты мачт над погибшими: вся эта крепкая, несколько избыточная мифопоэтика также предваряет — или программирует — молодого Булгакова.
Эмигрантский эпизод — четвертая картина, «Арменонвилль», — звучит эхом к финалу рассказа «Милосердия», написанного ещё в начале 1918 года; спасшийся герой глядит на танцующих в ресторане под Парижем:
<…>Забвения и мира всем, кто радуется часу жизни. дай, Господи!… Не нам, но этим…А нам – искупления, милосердия…
Под «Четырьмя картинами волшебного фонаря» стоит подпись: «Берлин, декабрь 1921 г.» Толстой как будто ставит точку на своих странствиях. Последний эпизод призывает к отказу от ненависти, к разоружению. Но если вглядеться, требуемая перемена приоритетов – еще глубже: герой задается вопросом, где правда – «здесь» или «там»?
Танцующие, музыка, тополя, закат в тонкой мгле казались ему пронзительно печальными и прекрасными. А там, на другом конце Европы, в этот же час… Боже мой. Боже мой… как в одном сердце могут жить и ненависть и нежность. и кровь и эта музыка? Где же правда, – здесь, или там?
Вначале это понимается как «здесь, где танцуют», или «там, где гибнут», и ответ напрашивается совестливый – нельзя танцевать, когда гибнут братья. Но чувствуется, что смысл уже соскальзывает к чему-то вроде: здесь, на Западе, где забвение и мир, – не может быть правды; правда – там, у нас, где трудно, но где еще живы религиозные ценности: искупление, милосердие; здесь, на Западе, человек измельчал. Сменовеховское мировоззрение уже вызревает на протяжении этого поначалу, казалось бы, антибольшевистского рассказа.
Рижский эпизод упоминается в интереснейшем письме А.Ветлугина к Дон-Аминадо, где выстраивается широкий исторический контекст поступка Толстого. Именно отсюда мы и узнаем о том, что Ветлугин, только что переехавший вслед за Толстым в Берлин, намеревается отправиться в Америку. У Дон-Аминадо в «Поезде на третьем пути» говорится:
Толстые уехали в Берлин.
Ветлугин что-то невнятное промямлил, не то хотел объяснить, не то оправдаться, и последовал за Толстыми.
На прощание сказал, что любят отечество не одни только ретрограды и мракобесы и что любовь—это дар Божий…
— А вы,—закончил он, ища слов и как будто замявшись,—вы еще хуже других, ибо расточаете свой дар исключительно на то, чтоб мракобесие это поэтизировать и, соблазняя, соблазнить, как говорил Сологуб. И все-таки, несмотря на все, я вас люблю… можете верить или не верить, мне это в высокой степени безразлично.
В доказательство непрошеной любви, спустя несколько месяцев, пришло последнее письмо из Берлина.
Помечено оно было февралем 22-го года.
«…хотя вы и считаете меня гнусным перебежчиком и планетарным хамом, но упорно не отвечать на письма еще не значит быть новым Чаадаевым и полнокровным европейцем.
Хочу, чтоб вы знали, что и в моем испепеленном сердце цветут незабудки.
Посылаю вам целый букет.
Издательское бешенство все возрастает.
«Слово» открыло отделение в Москве, на Петровке!..
И, кроме того, переходит на новую орфографию, которую вы так страстно ненавидите.
А.(sic!) С. Ефрон возвращается на родину, где ему возвращена типография. Хлопотал об этом Алексей Максимович Пешков, он же Горький.
«Грани»—издательство проблематичное, настроение правое, но с деньгами у них слабо.
Продаются, однако, и они хорошо, и альманах «Граней» допущен в Россию.
Незабудка номер два: в «Доме искусств» в очередную пятницу были Гессен и… Красин.
После этого А. А. Яблоновский и Саша Черный кажутся ультразубрами.
Тема дня—приезд двух советских знаменитостей, поэта Кусикова и беллетриста Бориса Пильняка.
Оба очень славные ребята, таланты недоказанные, но пить с ними весело, рассказывают много такого, о чем мы и понятия не имеем.
С ними, с Ященко, Толстым и Соколовым-Микитовым[65] много и часто пьянствуем.
Воображаю ваше презрение.
Толстой вернулся из Риги в отличном настроении.
Имел огромный успех, сам играл Желтухина в своей «Касатке».
Но дело не в этом, а в том, что Рига — аванпост, а также и трамплин.
Все переговоры ведутся в Риге, а, судя по советской «Летописи литераторов» и по преувеличенному ухаживанью Пильняка,— Толстой по-прежнему любимец публики.
Так что будьте уверены, что продолжение последует… [66]
По-видимому, к таинственным переговорам в Риге, упомянутым Ветлугиным, имел отрошение М.Кольцов. Пребывание Кольцова в Риге описывается в посмертном очерке о нем П.Пильского (газета «Сегодня»,1938 г.) О встрече Толстого с Кольцовым говорится и в деле последнего.В своих «признательных показаниях» Кольцов писал, что в начале 1922 г. он около меся работал в газете «Новый путь», издававшемся советским полпредством, и к нему якобы явился Пильский с предложением о сотрудничестве, но они так ни о чем и не договорились. Очевидно, именно Пильский устроил встречу Толстого с Кольцовым (см.: Фрадкин В. Дело Кольцова. М., 1992. С.242).
«Испепелённое сердце» и незабудки в вышеприведенном письме, наверно, — следы увлечения Маяковским, образы из «Облака в штанах»: «пожар сердца» и «это господь нюхает / души моей незабудки». «Слово» – берлинское книгоиздательство, считавшееся правым – его основал И. В. Гессен, издатель «Руля», а одним из редакторов был тот самый С. Ф. Штерн, который до 1920 г. выпускал «Одесский листок»; публиковало оно классиков, научную литературу и «Архив русской революции». «А С. Ефрон» – «а» здесь просто союз – это, очевидно, С. Я. Эфрон, крупнейший и знаменитейший русский издатель. По поводу визита видного большевистского деятеля Л.В. Красина в Дом искусств в странном сочетании с И. В. Гессеном: в феврале 1922 г. именно дома у последнего состоялся вечер Пильняка и Толстого.[67] То, что даже правое «Слово» Гессена наводило мосты с Россией, несколько позже дало повод сменовеховцам оспаривать свое исключение из эмигрантского Союза писателей и журналистов[68].
Берлин и «Накануне». После возвращения из Риги Толстой участвует в вечере дома у И.В.Гессена, на котором выступает также приехавший из Москвы Борис Пильняк. Воздействие Пильняка на Толстого многократно отмечалось: А. Яблоновский писал:
В Берлине я сам видел, как попутчик-Пильняк сманивал «под советскую власть» эмигрантского литератора Алексея Толстого.
Я слышал, как пел соловей про «советские возможности» и какие «гарантии» и обещания он давал полупьяному Толстому.
Должен сказать, что это было очень гнусное зрелище. По крайней мере, впечатление у меня осталось такое, как будто опытный торговец живым товаром сманивает девицу в Бразилию «в самый приличный и роскошный дом»… [69]
Резко осуждает его поведение в это время и Илья Эренбург:
Вы спрашиваете меня о Пильняке и др. Вы правы в догадках. То есть о нем лично я Вам писал — он мне очень не понравился. Вел себя во всех отношениях неблагородно, каялся и пр. Напоминал сильно Алексея Спиридоновича <Тишина — Е.Т.>[70].
В очерке «Заграница», написанном по свежим следам пребывания в Берлине — датированном 9 апреля 1922 г., Пильняк писал о том, что «русской литературы за рубежом» нет, а есть писатели: «<…>старые писатели — как в России, так и в эмиграции — молчат, потому что они оторваны, органически не приемлют нового быта: они приемлют (органически) мир глазами своей молодости. В России вообще несколько лет не было литературы, ибо очень уж перемолола быт мясорубка революции»[71]. Главная идея очерка — это то, что новую литературу могут создать лишь новые писатели — подразумевается, конечно, сам Пильняк. Об эмигрантских друзьях писателя здесь говорится как об «исключениях»:
И я счастлив, что сейчас могу говорить как раз об исключениях за границей. В Берлине я очень близко сошелся, дружил — с А.М. Ремизовым, Б.Н. Бугаевым (Андреем Белым), Алексеем Николаевичем Толстым и Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. <…> Алексей Н<иколаевич> Толстой нашел в себе молодости и озорства, чтобы преломить быт (ах, какую Тамбовскую губернию разводили мы — он, А.Н. Толстой — в немецких «Вайн-Штубе» — мы, Толстой, проф. Ященко, Соколов-Микитов и я; <…> Алексей Толстой и Соколов-Микитов — сменовеховцы, оба они к июню возвращаются в Россию. Оба они много написали — и хорошо. А.Толстой — два романа: «Хождение по мукам» и «Детство Никиты», Соколов-Микитов — роман «Нил Миротворчатый». Оба они модные в эмиграции писатели, особенно Толстой — первейший. Вот слова, которые он просил передать в Россию:
«— Видел всю Европу и стал мизантропом, проклял все человечество, и теперь только одна вера, одна надежда, что Россия и русские спасут мир, — поэтому считаю преступным. что по слабости человеческой сижу здесь».
Это он продиктовал мне тамбовским одним днем у себя на <Kurfuerstendamm> (самая русская улица). Там же у него был и Соколов-Микитов, и когда я спросил его, что передать, он молчал долго, потом сказал хмуро (вообще хмурый человек):
В Россию хочу, домой. (Там же).
Толстой в передаче Пильняка поражает декларацией в духе русского мессианства — сопровождая ее просьбой отнестись снисходительно к его человеческой слабости, мешающей ему вернуться. Соколов-Микитов тогда действительно, недолго думая, вернулся на родину уже в июне. Толстой же и год спустя все еще собирался.
В феврале-марте в Москве заседает комиссия Агитпропа, которая принимает решение о вмешательстве в литературный процесс. Это — первая попытка планомерной литературной политики, предпринятая новой властью:
21 февраля А. К. Воронский докладывал Агитпропу о публикуемой в частных издательствах литературе. В ней встречались враждебные Советам «контрреволюционные и мелкобуржуазные идеи». Воронский призвал к более острой идеологической борьбе на книжном рынке.<…>На заседании «Объединенного совещания коллегии агитационно-пропагандистского отдела» было принято решение о заметном заострении курса партии в культурной политике, с привлечением крупных, сочувствующих большевикам писательских объединений. Коллегия,<…> одобрила самый острый, идеологически выраженно левый курс, как его понимало руководство партии во главе с Лениным и Троцким<…>[72].
Очевидно, у Толстого в это время появляется стабильный заработок: вскоре повышается и уровень жизни – Толстые переезжают в четырехкомнатную квартиру в другом берлинском пансионе. Сюда иногда приходит Горький.
В это время выходит заметка Толстого в «Новой русской книге» Ященко в рубрике «Писатели о себе», демонстрирующая некоторые подвижки в ориентации, но пока без крайностей. Толстой почему-то поставил в центр этого повествование свое тело, которое уподобил червяку — как в тех главах своего романа, где речь идет о всяческом принижении человека на войне::
<…> Летней ночью, в Крыму, на берегу моря, оно увидело:
…над водой, тяжелой, черной и древней, как вселенная, поднимался лунный шар – он будто был налит кровью: густо-багровый и зловещий. Никаких других оснований не было, но все же оно поняло, что над морем, над землей, над сидевшим на пустынном берегу человеком, — над миром встает звезда смерти. Было чувство надвигающейся гибели (хотя и не было понятно – откуда она) и непостигаемое, равнодушное легкомыслие к повседневным делам, связям, к самому себе. Через немного дней пришла весть о войне.
<…>Оно ждало, что все вокруг него преобразится (почему ждало – не понимаю до сей поры). Но этого не случилось. Гнилой туман войны все гуще затягивал землю. Когда с грохотом обрушился византийский купол Империи , — не было ни сожаления, ни радости, потому что крушение, по виду такое чудесное и все должное изменить, было лишь одной из картин в длинном ряде действий великой трагедии. Занавес вздымался и падал перед измученными от утомления и дьявольского любопытства зрителями. И бахрома занавеса уже была в крови.
В первые дни террора червяк уполз из Москвы. И вот начались мучительные и долгие года скитаний. Огонек в сильно помятом и потрепанном бурями теле то угасал, то начинал дымить черным пламенем мщения и ненависти, то вспыхивал сумасшедшей верой в преображение родины.
Тело продолжало ползать по карте Европы: оно ползло на юг, потом на запад, потом поползло на восток. На запад гнали его ужас и мщение, на восток повлекли его любовь и неизбежность<…>[73].
Здесь Толстой уже мягко погрешает против правды – радость по поводу падения монархии была огромная. Уже намечена система координат: запад сопрягается с ненавистью, восток с любовью и – вместо ожидаемого читателем слова «надежда» — с фонетически близкой «неизбежностью» — уже начата «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» с аппетитно двусмысленным отношением к евразийскому соблазну; теперь Толстой делает следуюший ход. «Сумасшедшая вера в преображение родины» претворяется в межпланетные амбиции «Аэлиты».
В феврале-марте в Москве заседает комиссия Агитпропа, которая принимает решение о вмешательстве в литературный процесс. Это — первая попытка планомерной литературной политики, предпринятая новой властью:
21 февраля А. К. Воронский докладывал Агитпропу о публикуемой в частных издательствах литературе. В ней встречались враждебные Советам «контрреволюционные и мелкобуржуазные идеи». Воронский призвал к более острой идеологической борьбе на книжном рынке.<…>На заседании «Объединенного совещания коллегии агитационно-пропагандистского отдела» было принято решение о заметном заострении курса партии в культурной политике, с привлечением крупных, сочувствующих большевикам писательских объединений. Коллегия,<…> одобрила самый острый, идеологически выраженно левый курс, как его понимало руководство партии во главе с Лениным и Троцким<…>[74].
Каким образом финансирование «Накануне» связано было с этими решениями, еще неизвестно, но связь несомненно была — организация газеты была звеном в цепи продуманного наступления на свободную литературу.
С начала весны начинается работа в газете «Накануне»[75], через месяц, 26 марта 1922 г., выходит в свет ее первый номер, а 30 марта – первое «Литературное приложение», которое он редактирует. В обзоре «Литературная жизнь» сообщалось с некоторой мстительностью:
Парижские издательства зачахли, а Земгор, суливший издать всех классиков под редакцией И. Бунина, за два года сумел выпустить лишь один томик Капниста, Хемницера и пр. «Современные записки» ещё в начале зимы переехали в Берлин[76]. Впрочем, и здесь они выходят крайне нерегулярно.
На вечере, посвященном памяти В.Д. Набокова в берлинском Доме искусств внезапно разразился спор Толстого с Андреем Белым о сменовеховстве (о чем сообщала газета «Накануне»№7 от 3 апреля 1922 года в рубрике «Хроника», за подписью А. В.). Заметка могла, по хлестскости, принадлежать Ветлугину. Но в газете также работал некто А.Вольский, рецензент и хроникер, впоследствии вернувшийся в Россию и расстрелянный).
В Доме Искусств.
А.Н. Толстой с присущим ему тонким юмором рассказал о своём знакомстве с В. Д., совместной поездке в Англию в 1916 г., представлении английскому королю, посещении английских передовых позиций, подчёркивая проявлявшуюся при всех обстоятельствах гармоничность облика В. Д. «Это был ритмически сделанный человек… Лучший образец русской расы».
Конец вечера ознаменовался любопытным диспутом, не стоявшим в прямой связи со всем предыдущим.
Между А. Н. Толстым и Андреем Белым разгорелся частный спор, который так воспламенил последнего, что он вскочил с места и, обращаясь уже ко всей аудитории, быстро собрал вокруг себя «род веча»… Спор на модную тему – о «Смене вех», о «Накануне», против которых А. Белый ополчился с горячностью, не соответствующей его обычному спокойствию в частной беседе.
– Помилуйте, – говорил он, пожимая плечами и жестикулируя; – прежде они скалили на нас зубы на белых фронтах, собирались меня расстреливать, а теперь, когда в России начинают приспособляться мародёры, поют дифирамбы! Одно из двух: либо восторжествует дух, либо – материя; а здесь хотят взять три четверти материи, четверть духа, создать какого-то Гомункулуса в реторте…
– Борис Николаевич, – добродушным баском успокаивал его А. Н. Толстой, – да при чём здесь дух, когда люди с голоду дохнут. Тут вагоны с хлебом нужно слать в Самарскую губернию – а вы: «дух»!
Но Борис Николаевич не унимался, продолжая громить отсутствующих «вехистов».
Однако за них вступился сидевший неподалёку от А. Белого один из редакторов «Накануне» Г. Л. Кирдецов.
– Мы никому не пели дифирамбов, – сказал он; – и говорить об этом может лишь тот, кто не читал нашей газеты. Но мы хотим помочь русскому эмигранту разобраться в значении октябрьской революции. Что бы не произошло в Москве, хотя бы чудо свержения советской власти вооружённой рукой, – ростовщические требования, предъявленные к нищей России, не изменятся <…>
Такая постановка вопроса несколько смутила А. Белого. Он стал отговариваться незнанием политики, ссылаясь на примеры из Нового Завета.
Эти аргументы, не убедив аудитории, привели её, однако, в весёлое настроение, а Г. Л. К.-у пришлось выслушать ряд сочувственных обращений.
Очевидно, вехи меняются сами собой.
Напряжение между Толстым и Белым в течение 1922 г. будет все увеличиваться.
Сменовеховцев начинают изгонять из эмигрантского Союза писателей и журналистов, и Толстой 14 апреля – ср. символику Пасхи, то есть смерти и воскресения – печатно оповещает о своем разрыве с эмиграцией – это известное «Открытое письмо Н.В.Чайковскому». Письмо, прежде всего — превосходное литературное произведение, производит оглушительный эффект. Следует грандиозный, планетарный скандал. Толстому никогда не снилась такая известность. Алданов обиженно констатировал: «Ему, разумеется, очень хочется придать своему переходу к большевикам характер сенсационного, потрясающего исторического события»[77]. Вот ответ на вопрос, почему Толстого так ругали – ведь уезжали в Берлин, сотрудничали в советских изданиях, возвращались и другие. Кто сказал дурное слово, например, про Соколова-Микитова, который под влиянием того же Пильняка без всякой помпы летом 1922 г. поехал на родину и в первом же письме писал: «Врут сменовеховцы, но есть для чего в России нужно быть?»[78]
Впоследствии писатель будет вспоминать, что важную роль в его решении якобы сыграл совет Горького:
Весной 22 года встреча с Максимом Горьким решила мой выбор: я перешёл на этот берег, – так же, как и много раз до этого, катастрофически покончив с прошлым.[79]
Но какова на самом деле была эта роль? Что мог посоветовать Толстому Горький, обиженный большевиками, но находящийся их на щедром довольствии, де факто эмигрант, однако не сближавшийся с белой эмиграцией? Горький, уехавший из России через полгода после начала НЭПа, уверенный в том, что от этого тактического отступления большевиков не приходится ожидать серьезных изменений в том, что касается свободы слова и отношения к инакомыслящим, крайне отрицательно относился к сменовеховству[80] и не одобрял газету «Накануне». Н Примочкина пишет:
Открытый разрыв с непримиримыми вождями эмиграции и «смена вех» Толстого совпала по времени с его первой встречей за рубежом с Горьким. Она состоялась в начале апреля 1922 г., через несколько дней после приезда Горького из санатория <…>Поначалу Горький относился к выбору Толстого в пользу сменовеховства и газеты «Накануне» снисходительно. Он высоко ценил талант этого писателя и хотел привлечь его к сотрудничеству в собственном журнале. который намеревался издавать.В письмах к Г.Уэллсу, Р.Роллану за май 1922 г. писатель называл Толстого в числе редакторов будущего журнала «Беседа». С весны 1922 г. происходят частые встречи Толстого с приехавшим в Берлин<…>Горьким, между ними возникает дружба и большая взаимная симпатия. Тогда же Толстой подарил Горькому первую часть трилогии «Хождение по мукам» (Берлин, 1922) с дарственной надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу, с любовью от автора. 31 мая 1922 г.»В тот же день, когда была подарена эта книга, 31 мая 1922 г., Толстой вместе с другими сотрудниками газеты «Накануне» был со скандалом исключен из берлинского Союза русских писателей и журналистов. Сам периодически подвергавшийся травле со стороны наиболее непримиримых литераторов русского зарубежья, Горький искренне сочувствовал «сменившему вехи» Толстому, каждый шаг и поступок которого вызывал резкую, даже издевательскую критику эмигрантской прессы.1 июня 1922 г. Горький писал по этому поводу Н. Бухарину в Москву: «…вот, сейчас, здесь травят Алексея Толстого, вероятно, сегодня ему устроят публичный скандал. С какою дикой злобой пишут о нем «Руль» и «Голос». А человек этот виноват только в том, что он — искренний человек и великолепный художник.[81]
Горький, в отличие от других эмигрантских писателей, мог жить на литературные гонорары, его единственного из всех русских писателей знали за рубежом, его непорванные отношения с Россией заставляли относиться к нему с особенным вниманием, его слово ценилось.[82] Он мог пытаться подтолкнуть Толстого к подобной же двойной жизни, некоему эрзацу независимости от враждующих лагерей. Вокруг него самого уже собиралась группа таких колеблющихся, вернее, неприсоединившихся – Белый, Ремизов, Ходасевич с Берберовой, Шкловский. Именно так, на наш взгляд, надо понимать то, почему Горький одобрил манифест Толстого – письмо того к Н. В. Чайковскому от 14 апреля 1922 г. Ведь это письмо делало Толстого наполовину независимым.

С Горьким в Берлине
Толстой в первое время существования «Накануне» пытался прокламировать отдельность своего Приложения от газеты и его аполитичность, ср.:
Слова «вне политики» встречаются в письмах Горького при характеристике некоторых его начинаний. Собираясь уже после «Письма» к Чайковскому заниматься активной издательской деятельностью, А. Толстой рассматривал аполитичность как фактор, который мог только привлечь писателей. У А. Соболя он просит рассказ для литературного приложения к «Накануне», которое «выходит отдельным журналом — тетрадью,— вне всякой политики». [83]
Однако вскоре, в июне, Толстой повел себя некорректно и неосмотрительно в истории с публикацией на страницах «Накануне» частного письма к нему К. Чуковского, причем неодобрительные отзывы автора частного письма о ряде лиц, помещенные на страницах газеты, прозвучали как политический донос. Горький якобы уговаривал Толстого вообще не печатать письма Чуковского, по крайней мере, старался по возможности смягчить его[84]. Эта история переплелась со свежим еще скандалом с отлучением накануневцев от эмиграции. Гневно осудила Толстого Цветаева в своем известном «Открытом письме А.Н.Толстому». Горькому писали из Петрограда: «Ал<ексей> Ник<олаевич> себе помещением этого письма очень навредил. Правда, почти все говорят о том. что от него этого можно было ожидать («наивен», «не умен», «не политик», «бестактен»), но все-таки трещина между ним и здешним литератором получилась большая»[85]
Все же, несмотря ни все новые политические осложнения, Толстой еще некоторое время, почти до конца 1922 г., остается, по выражению Пильняка, «первейшим», – главной фигурой литературного Берлина. Никогда еще он не занимал такого центрального положения. По всем признакам это расцвет. Одна за другой выходят его книги, и не только уже написанные в Париже, но и новые. Он собирает в своей газете молодую литературу России и эмиграции – контрастно противопоставив свою линию стареющей группе «Современных записок». Он – литературный авторитет для молодежи. Им восхищается Булгаков. Молодой Набоков опишет его через несколько лет в романе «Подвиг» – это писатель Бубнов, образ которого введен грубейшей, но эффективной аллюзией:
Писатель Бубнов, — всегда с удовольствием отмечавший, сколь много выдающихся литературных имен двадцатого века начинается на букву «б», — был плотный, тридцатилетний, уже лысый мужчина с огромным лбом, глубокими глазницами и квадратным подбородком. Он курил трубку, — сильно вбирая щеки при каждой затяжке, — носил старый черный галстук бантиком и считал Мартына франтом и европейцем. Мартына же пленяла его напористая круглая речь и вполне заслуженная писательская слава. Начав писать уже за границей, Бубнов за три года выпустил три прекрасных книги, писал четвертую, героем ее был Христофор Колумб — или, точнее, русский дьяк, чудесно попавший матросом на одну из Колумбовых каравелл, — а так как Бубнов не знал ни одного языка, кроме русского, то для собирания некоторых материалов, имевшихся в Государственной библиотеке, охотно брал с собою Мартына, когда тот бывал свободен. <…> У Бубнова бывали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты, — все это были люди, по мнению Бубнова, среднего таланта, и он праведно царил среди них, выслушивал, прикрыв ладонью глаза, очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременным присутствием Медного Всадника) и затем говорил, тиская бритый подбородок: «Да, хорошо»; и повторял, уставившись бледно-карими, немного собачьими глазами в одну точку: «Хорошо», с менее убедительным оттенком; и, снова переменив направление взгляда, говорил: «Неплохо»; а затем: «Только, знаете, слишком у вас Петербург портативный»; и, постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо, со вздохом бормотал: «Все это не то, все это не нужно», и удрученно мотал головой, и вдруг, с блеском, с восторгом, разрешался стихом из Пушкина, — и когда однажды молодой поэт, обидевшись, возразил: «То Пушкин, а это я», — Бубнов подумал и сказал: «А все-таки у вас хуже». Случалось, впрочем, что чья-нибудь вещь была действительно хороша, и Бубнов — особенно если вещь была написана прозой — делался необыкновенно мрачным и несколько дней пребывал не в духах.. [86]
Зарисовка мэтра Бубнова, царящего над малоспособной молодежью и мрачнеющего от талантливых вещей, — это злой и очень точный портрет Алексея Толстого в Берлине. Можно документально подтвердить и лоб, и дуги, и цвет глаз, и галстук-бабочку, и трубку. Только возраст сбавлен, чтобы не осложнять любовную ситуацию Бубнова – удачливого соперника героя. Выдумка с дьяком на Колумбовой каравелле замечательно ухватывает секрет очарования толстовской исторической прозы – сплав современнейшего русского языка с аппетитно старинным. Все описание настолько точно, что начинаешь верить, что действительно юный поэт подрабатывал библиотечными розысками для бубновского прототипа. Возможно ли, чтоб он реферировал ему, скажем, статьи о летательных аппаратах для «Аэлиты»?

Писатели в Берлине
Вскоре положение Толстого вновь осложнилось.
Направление газеты становилось все более и более очевидным. В мае 1922 г. в Москве начался процесс над левыми эсерами, который возмутил весь мир. Все рабочие партии Европы объединились в защиту подсудимых. Горький адресовал своим бывшим товарищам в московском правительстве гневное письмо, обвиняя их в том, что они готовят предумышленное убийство. Все эмигрантские газеты протестовали против произвола, — кроме «Накануне». Сервилистская позиция газеты шокировала общественность — для берлинцев она окончательно себя скомпрометировала.
В писательской среде Петрограда и Москвы также сформировалось отрицательное отношение к «Накануне». Л.Флейшман писал: «Непосредственным поводом этого послужило открытие конторы газеты в Москве и визит в советскую Россию Ключникова и Потехина.»[87] Лекции последних антагонизировали интеллигенцию. Оба эти события относятся к концу мая –началу июня 1922 г. Секретарем редакции в Москве был Э.Миндлин[88], интеллигентный литературный юноша, заведующим — М.Левидов[89] — важный номенклатурный чиновник, левый идеолог, явно поставленный на это место в острастку «контре» .
Резко осудило Толстого за сотрудничество в «Накануне» примиренческое содружество писателей, художников и музыкантов «Веретено», объединявшее эмигрантскую творческую молодежь с группой советских писателей. Один из основателей содружества молодой прозаик А.Дроздов откликнулся на открытие московской редакции газеты:
Дело в гр. А.Н. Толстом, писателе большом и искреннем. чиьи книги наша национальная гордость. Гр. А.Н. Толстой стосковался по России<…> Гр. А.Н. Толстой принял поддужную газетенку за самый короткий коридорчик в официальную Россию. Гр. А.Н. Толстой ошибся: в Россию для писателя есть более короткая дорога — честная и открытая литературная работа, подобная той, которой заняты писатели в России[90].
От газеты отворачиваются многие, но по разным причинам. Пильняк 4 июня 1922 г. посылает в журнал «Новая Русская Книга» полное амбивалентностей письмо о своем выходе из «Накануне»: из него в общем следует, что сменовеховцы – это прошлая общественная формация, не знающая буден России, и что их вехи нуждаются в перепроверке:
<…>Я больше не буду сотрудничать в «Накануне». Я знаю и верю, что идет, пришла Новая Россия и на обовшивевшем ее пути — по новому пути поведет ее новая, народившаяся теперь, биологически теперешняя , общественность. Тем, кто хочет быть в России — должен быть в России — должен перепроверить свои вехи, — тем надо знать будни России<…>[91]
При этом автор распинается в своей любви к сменовеховству и сменовеховцам:
<…>Я приветствую сменовеховство как искание. Сам я, в сущности, сменовеховец. Но «Накануне» не знает наших будней и просматривает нашу молодую, теперешнюю, революционную общественность,— тактика «Накануне» мне чужда. И это разводит наши дороги.<…>(там же).
Загадочные будни советских писателей, которых не знают берлинцы, расшифровываются в извиняющейся и жалкой приписке Пильняка:
Мне тут прислали пачку «Накануне», — я ознакомился, и по совести моей не могу сотрудничать в этой газете, — я, сотрудник «Печати и революции», «Красной Нови» — лежачего не бьют. (там же).
Итак, попутчик Пильняк, которого и так постоянно пробирает за контрреволюционность «молодая общественность», т.е. левая партийная журналистика, как выясняется, боится, что сотрудничество в «Накануне» его погубит, и оправдывается: «лежачего не бьют». Несколько раньше Пильняк печатно опроверг свое согласие на публикацию в эсеровской газете «Воля России».[92] Он пытается быть лояльным к властям, одновременно заботясь, чтоб не порвать личных отношений с накануневцами.
Дело в том, что в России в этот момент происходили судьбоносные политические сдвиги: обострившийся внутрипартийный конфликт с рабочей оппозицией (отвлечь внимание от опасного внутреннего конфликта и должен был процесс эсеров), инсульт Ленина, назначение Сталина на должность генерального секретаря партии, оттеснение Ленина «триумвиратом» Сталина, Зиновьева и Каменева. Политическая ситуация накалялась, и это сказывалось на ухудшении отношения к сменовеховству, ср.
В июле <23 июля— Е.Т > 1922 г. первый грозный окрик по адресу сменовеховства следует уже со страниц «Правды». Он вызван слабым упреком в «Накануне», что процесс мог бы вестись более демократическими методами. В передовой «Правды» спрашивалось, кем же являются сменовеховцы, «приживальщиками революции» или же ее сторонниками? В «Правде» содержалась и открытая угроза, что если сменовеховцы будут вести себя в том же духе, то в лучшем случае они останутся приживальщиками, а в худшем — открытыми врагами революции[93].
Даже рептильная в глазах эмиграции «Накануне» теперь стала восприниматься властями как слишком свободная от идеологического диктата за то, что осмелилась мягко пожурить власти за расправу с эсерами. В конце июля 1922 г. внутри самой газеты происходит раскол – в августе покидает редакцию Ключников.[94] Несомненно внутриредакционный конфликт, приведший к изгнанию Ключникова и к единоличному правлению Кирдецова,[95] был вызван недовольством советского начальства и желанием поставить во главе редакции человека, полностью управляемого советским руководством, каким был Кирдецов. Толстой попал в газету через Ключникова, и теперь должен был солидаризироваться с ним и другими «парижанами»-сменовеховцами, а не с «берлинцами»-политиканами. В газете он теперь чувствовал себя явно не на месте и поговаривал об уходе. Уход Толстого из «Накануне» должен был состояться тогда же, когда ушел Ключников. Он писал А. Соболю в конце июля: «Я, по-видимому (это решается завтра), буду редактором толстого журнала (лит. отдел), и «Накануне» оставлю. Журнал — без политики».[96]
В действительности Толстой получил с июля заведование вновь организованным книгоиздательским отделом газеты «Накануне»; ранее, с начала 1922 г., он был редактором литературного отдела берлинского издательства «Русское творчество» (имя владельца «Русского творчества» он назвал в письме Наживину: Николай Никитич Иванов[97]; однако, был ли тот действительным, а не номинальным хозяином этого предприятия, неизвестно). Но газету он так и не оставил – может быть, именно потому, что ему обещали альтернативу в виде журнала. Журнал же в конце концов так и не реализовался, что вполне понятно — в Берлине в это время выходила «Новая русская книга» Ященко, «Эпопея» Белого, «Сполохи» Дроздова, а в конце 1922 г. с проектом собственного издания, будущей «Беседы», начинает выступать и Горький (см. ниже).
В том же письме Толстой сообщает как о деле решенном: «В сентябре буду в Петербурге и Москве.» Но именно в конце лета 1922 г. Россия организует высылку интеллигенции. Ее сопровождает волна арестов. Горький, видимо, в курсе дела, ибо в середине сентября он пишет Толстому следующее выразительное послание, явно предупреждая его не ехать в Россию ни в коем случае:
В Петрограде арестован Замятин. И еще многие, главным образом – философы и гуманисты: Карсавин, Лапшин, Лосский, и т.д. Даже – Зубов[98], несмотря на его коммунизм, видимо за то, что – граф.
Старому большевику, недавно убитому кем-то в Лондоне, князю Кугушеву, один мудрый уфимский мужичок сказал:
— Да ты – князь, стало быть? Это – плохая твоя примета, и лучше бы тебе кривым быть на один глаз!
Так-то.[99]
Толстой не поехал — очевидно, послушался предупреждения.
Осенью 1922 г. на «философском пароходе» в Берлин прибывают высланные из Советского Союза общественные деятели и литераторы, но они предпочитают сторониться Толстого и других «накануневцев», ср.:
Внутренние распри в Доме искусств почти день в день совпали с появлением в Берлине сплоченной группы высланных из Советского Союза общественных деятелей и литераторов. Атмосфера Дома[100] им была никак не по душе, а между т ем им не терпелось в «изгнании» (ведь, собственно, они были единственными, кто мог, по Лермонтову, гордиться почетным титулом «изгнанников») периодически встречаться, не столько чтобы сохранить между собой связь, сколько чтобы иметь возможность поделиться мыслями, поспорить и послушать тех, кто до них совершил «прыжок в Европу», или тех, кто в Берлине был лишь на положении перелетных птиц, то есть готовился вот-вот вернуться на нэповскую родину с заграничными покупками и ворохом надежд и упований.
Душой этой новой организации оказался вечно молодой Осоргин, в те дни более известный как журналист, чем как писатель. На его призыв с большой охотой откликнулся Борис Зайцев, а затем к ним примкнул и Бердяев. Эта тройка и стала правлением Клуба писателей… <…>
Должен подчеркнуть, да это и видно из приведенных мной имен, что никакой кружковщины в Клубе быть не могло. Двери Клуба были открыты каждому, кто только хотел в них постучаться.
Но было все-таки одно исключение. Оно никогда не было зафиксировано, но вышло само собой: Клуб несколько сторонился активных сменовеховцев и сотрудников газеты «Накануне». Может быть, не столько из-за их несбыточных или же создаваемых иллюзий, сколько потому, что в их теориях, как и у их литературного главаря Алексея Толстого, ощущалось больше приспособленчества, чем идеологии.[101]
Эт отчуждение, несомненно, добавило горечи в самоощущение Толстого. Но переполнила чашу общественного терпения атака газеты на Эренбурга 29 октября 1922 г. (см. выше), возмутившая всех литераторов как грубое нарушение цеховой солидарности. В начале ноября Дом искусств раскололся. Н. Примочкина пишет:
По инициативе председателя президиума Дома искусств А.Белого, его заместителя В. Шкловского, члена президиума В.Ходасевича, издателя С. Каплуна-Сумского 7 ноября в Доме искусств состоялось чрезвычайное общее собрание по вопросу об исключении И. Василевского,и А. Толстого. Однако группа сменовеховцев на этот раз победила, и А. Белый, А. Ремизов, В. Ходасевич, В. Шкловский, С. Каплун-Сумский, Н.Берберова и другие были вынуждены покинуть Дом искусств[102].
Эта группа, практически совпадающая с ближним кругом Горького и с будущей редакцией «Беседы» (Каплун-Сумский станет ее издателем) создала конкурирующий с Домом искусств Клуб писателей. Туда перешли и другие члены Дома искусств, не одобрявшие поведения Толстого и его сотрудников. Так раскололся Клуб московских писателей, объединивший их всех в страшную революционную зиму четыре года назад. Толстой не мог не чувствовать все растущую свою изоляцию.
Несомненно, ему было обидно терять Ходасевича, с которым он сблизился в Москве и часто виделся в Берлине. Но еще более значимо было осуждение Белого. Уже в «Хождении по мукам» Толстой пропитался идеями и прозаической техникой Белого. Это всегда ощущалось — не зря в одной из экранизаций Бессонов читает стихотворение Белого. Нет сомнения, что антропософская подоплека «Аэлиты» — плод берлинской культуры в ее «высоком» варианте, для которого централен Белый, «Эпопея» с «Котиком Летаевым», «Воспоминания о Блоке». За романом Толстого маячит память о системе ценностей символизма, воплощенная в оккультном сюжете оживления «мертвой» героини. Однако в плане литературно-политическом Белый стал открытым неприятелем Толстого.
Любопытно, что Нина Петровская, которой Толстой дал работу в «Накануне» и которая ему за это была экстатически благодарна, высоко оценила «Аэлиту», увидев в ней образцовое символистское произведение нового типа (возможно, достигшее символизма спонтанно, помимо задания), а главное, свободное от недостатков символистской прозы, читай — от недостатков Белого:
Неповторимая фигура в русском искусстве — весь антитеза крика, моды, вылезания из самого себя, надуманности, эффектов, подозрительной новизны и всех тех аксессуаров писательства, которые сводят с ума молодое воображение.В последних главах Аэлиты развертывается во всю ширь щемящая образами какой-то неземной тоски, его колдующая фантазия. Надмирные видения ужаса и счастья, борьбы и гибели, силы и ничтожества, — запечатлены в образах совершенно неподражаемых, красочно углубляющихся до значительности символа, мможет быть, помимо их первоначального замысла, как это бываетв произведениях, где перед творческой силой, переплескивающейся через край, открываются дали несказанных просторов.[103]
Петровская заняла эту демонстративно антибеловскую позицию, очевидно, желая поддержать Толстого в его конфликте с Белым.
В те же самые ноябрьские дни происходит раскол «Веретена», еще одного содружества деятелей искусств, пытавшихся встать «над схваткой», и все по тому же поводу — из-за беспрецедентного нападения газеты на Эренбурга, объединявшее в основном молодых деятелей искусства и включавшее большую группу писателей, работавших в советской России.
Через две недели после атаки газеты на Эренбурга, 12 ноября, в день выступления Толстого на вечере содружества, восемь его активных членов, осуждающих поведение Толстого, покидают «Веретено» и переходят в отчетливо антибольшевистское издательство «Медный всадник» С.А. Соколова-Кречетова[104]. Среди них Бунин, Сирин (Набоков), Вл. Амфитеатров-Кадашев[105], С. Горный[106], И. Лукаш[107], Г. Струве[108] и др. Уже не политика «Накануне» поляризует общественность, а агрессивность и грубость Толстого и Василевского, сводящих личные счеты в безобразном тоне.
В середине зимы 1923 г. вновь возник слух об «уходе» Толстого из «Накануне» (или это эхо старых разговоров?), он дошел до Горького, который выразил по этому поводу радость. 20 января 1923 г. — в день, когда у Толстого родился младший его сын — он пишет:
…Поздравляю вас и Наталью Васильевну с новорожденным (Это мой отец Дмитрий Алексеевич, 1923-2003 — Е.Т.)— ему счастливой жизни, Н.В. — скорейше встать на ноги, бодрой, здоровой, Вам же всего доброго и вдохновений.
И — вот что: затеян ежемесячник литературы и науки — без политики., и при постоянном сотрудничестве А. Белого, Ходасевича, Шкловского, моем, Ремизова, д-ра Залле, и очень желательно Ваше участие на равных со всеми правах, конечно. Я бы и очень рекомендовал Вам, и очень просил Вас — согласитесь. Давайте работать вместе.
Слышал, что Вы ушли из «Нак<ануне>» , — это очень хорошо! Но Вам необходимо заявить об этом гласно, напечатав, хотя бы в «Днях», коротенькое письмецо: больше в «Н<акануне>» не сотрудничаю. Сделайте это![109]
Любопытно, однако, что за полгода до того, 30 мая 1922 г., Горький писал Р.Роллану о проекте журнала иначе: «Главные редактора журнала — политически совершенно независимые люди. Это: профессора А.Пинкевич[110] и Тарле[111], член Академии наук С.Ольденбург[112], я и граф Алексей Толстой» (Курсив автора — Е.Т.)[113].
Что изменилось с тех пор? В первую очередь, кристаллизовалась литературная редакция «Беседы» — та же самая группа, что инициировала исключение Толстого из Дома искусств, и, когда это предложение не прошло, сама из него вышла. Горький как будто милосердно «протягивал руку помощи» провинившемуся Толстому, давал ему последний шанс «исправиться». Но был ли Толстой готов участвовать в его литературном предприятии «на равных правах» со своими врагами? Можно уверенно сказать, что Горький не ожидал его согласия. Ведь он предлагал Толстому, «хозяину» Литературного приложения и издательства, именно не соредакторство, а участие в редколлегии. Скорее всего, это был фиктивный «жест доброй воли», украсивший поздравительное письмо.
На наш взгляд, Горький скорее всего пытался в этом письме выяснить, что означают дошедшие до него разговоры. Какую реальность могло отражать возникновение этого слуха в январе 1923 г.?
Внешне Толстой благополучен, и семейная жизнь его явно пошла на лад, рождается второй ребенок. Но Тэффи, посетившая Берлин в январе 1923 г., сумела повести с ним искренний разговор. Она написала из Берлина Бунину:
<…> Видела Толстых. Ему тошно в «Накануне», а назад тоже ходу нет. Наташа собирается на днях размножиться. У них никто не бывает, и живется им морально очень тяжело при материальных удачах.[114]
Крандиевская в мемуарах уверена, что Толстой равнодушен был к тому, что пишет о нем пресса. Кажется, что юноша Набоков увидел его с другой стороны:
Не удивившись вовсе появлению Мартына, которого он не видел с весны, Бубнов принялся разносить какого-то критика, — словно Мартын был ответственен за статью этого критика. «Травят меня», — злобно говорил Бубнов, и лицо его с глубокими глазными впадинами было при этом довольно жутко. Он был склонен считать, что всякая бранная рецензия на его книги подсказана побочными причинами — завистью, личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно бессвязную речь о литературных интригах, Мартын дивился, что человек может так болеть чужим мнением…. [115]
Так Набоков преломляет кампанию против Толстого в эмигрантской печати. Характерно, что политическая подоплека остается вне поля его зрения, показан только тяжело раненный человек, не умеющий встать выше чужого мнения, сводящий литературную жизнь к личным склокам. Второй набоковский портрет Бубнова стилизован в риторике кораблекрушения:
Бубнов сидел на постели, в черных штанах, в открытой сорочке, лицо у него было опухшее и небритое, с багровыми веками. На постели, на полу, на столе, где мутной желтизной сквозил стакан чаю, валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубнов одновременно заканчивает новеллу и пытается составить по-немецки внушительное письмо Финансовому Ведомству, требующему от него уплаты налога. Он не был пьян, однако и трезвым его тоже нельзя было назвать. Жажда, по-видимому, у него прошла, но все в нем было искривлено, расшатано ураганом, мысли блуждали, отыскивали свои жилища, и находили развалины.(Там же).
Наверно, строку о том, что все в нем искривлено и расшатано ураганом, и о «развалинах» его мыслительных процессов надо отнести именно к той политической трепке, которую оригинал двух набоковских портретов выдержал – или скорее не выдержал. Последовательность их указывает в направлении распада. На бытовом уровне изображенная ситуация также более чем правдоподобна: Толстой в Берлине не был стеснен в деньгах и постоянно сидел в кофейнях и ресторанах, всегда в больших компаниях, как легко убедиться, листая «Камер-фурьерский журнал» Ходасевича. Вырвав себя из своего естественного – элитного парижского – социального контекста, в Берлине он чувствовал себя менее обязанным соблюдать декорум, стал менее разборчив в общении; о том, что публика, окружавшая его, была часто весьма сомнительной, писали многие.
Тэффи, судя по ее позднейшему мемуарному очерку о Толстом, считала, будто Толстой первоначально и не собирался возвращаться, а вытолкнула его эмиграция, чересчур бурно отреагировав на его работу в «Накануне»:
Мне тогда думалось, что если бы не поднялась против него такая отчаянная газетная травля, он бы, пожалуй, в Россию и не поехал. Но его так трепали, что оставаться в эмиграции было почти что невозможно. Оставалось одно — ехать в Россию.<…>
Я виделась с Толстым в Берлине. Он приготовился было хорохориться и защищаться. Но я не нападала, и он сразу притих. Стал жаловаться, как его травит эмигрантская печать.
— Кинулись рвать, как свора собак. Да и все равно лучше уехать. Ты понимаешь, что мне без России жить нельзя. Я иссяк. Мне писать не о чем. Мне нужны русские люди и русская земля. Я еще много могу сделать, а здесь я пропал. Да и возврата мне нет[116].
Напомним, что эта встреча имела место в середине января 1923 г. Еще летом 1922 г. Толстой просит Чуковского помочь ему установить контакт с его дочерью Марианной, а осенью пытается выписать ее в Берлин, — правда, безуспешно. Вряд ли такая линия поведения свидетельствует о планах быстрого возвращения. (О. Михайлов также не находит в письмах Толстого, написанных этой осенью и даже зимой, и тени мысли о возвращении.) И вдруг в январе он внезапно ощущает, что «он здесь пропал», что он «иссяк», что ему не о чем писать. Наверно, лучше всего говорят о подлинных чувствах Толстого сами его выражения, запечатленные Тэффи. «Возврата мне нет» – это говорится о возвращении в общеэмигрантское лоно, про возвращение же в Россию сказано просто — уехать.
Не свидетельствует ли такое внезапное осознание бесплодия своего дальнейшего пребывания в Берлине о том, что именно тогда вопрос о возвращении начал обсуждаться между ним и властями?
Можно предположить, что в середине зимы затравленный Толстой мог просить, чтоб ему позволили уйти из газеты, антипатичной ему и его компрометирующей — ведь в таком положении он не может никого привлечь, наоборот, отталкивает. Мог напоминать об альтернативе — том самом журнале, который ему обещали летом.
Но не было ли уже некоторого разлада между ним и его работодателями в полпредстве?
Просочившиеся в печать сообщения о том, что А. Толстой «сумел сойтись с самим Крестинским[117]», не лишены оснований, и писатель на самом деле встречался с послом РСФСР, что подтверждает Е. Г. Лундберг. Его жена Елена Давыдовна приводит другое интересное свидетельство. Когда на лечение в Германию приехал ее брат, видный большевик Леван Давыдович Гогоберидзе, А. Толстой просил Е. Г. Лундберга устроить встречу с ним, и такая встреча на квартире Е. Г. Лундберга состоялась. Было это, вероятно, в начале 1923 года. Не исключено, что имели место и другие подобные встречи.[118]
Еще одного дипработника, финансиста, на деле сотрудника ГПУ по имени Бустром[119], он тоже мог встречать – и, возможно, говорил с ним на генеалогические темы: ведь отчима Толстого звали Бостром. Судя по всему, именно в Берлине Толстой получил добавочные данные о кое-каких действиях большевистского подполья в Одессе 1919 г., знакомых ему с другой стороны, – потому что на удивление точно[120] восстановил их в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус», опубликованной в 1923 г. еще в Берлине, в журнале «Сполохи».
Наряду с этими переговорами с власть имущими зимой 1923 г. Толстой искал и неофициальных встреч с влиятельными московскими коммунистами. Он мог их спрашивать о политической ситуации в Москве, о том, не поставит ли переезд в опасность его жизнь и свободу. Значит ли это, что Толстой искал совета незаинтересованных, но сведущих лиц — может быть, не полностью доверяя Крестинскому?
Никто еще, кажется, не пытался взглянуть на эту ситуацию глазами тех, кто должен был по его поводу принять решение. Толстой понадобился власти, чтобы легитимизировать орган, целью которого было расколоть литературную эмиграцию. Он и сыграл эту свою роль весной 1922 г. Но за блестящим началом последовала серия компрометирующих поступков, бытовых скандалов, никак не связанных с политической позицией газеты.
К началу 1923 г. безупречный имидж, привезенный им из Парижа, был за год, проведенный в Берлине, полностью разрушен. Тогда Толстой предложил свой авторитет — теперь предлагать было больше нечего. Толстой явно перестал быть козырной картой сменовеховства. Естественно предположить, что власти могли быть им недовольны. Вполне мыслимо, что ему намекнули, что непрекращающиеся грязные истории вокруг него бросают тень на весь проект.
Ни в каком другом качестве за границей он был не нужен —— его послужной список в глазах властей и престиж в глазах мировой общественности ни в какое сравнение не шли с горьковскими, известность его была в основном новая, связанная именно с его сменовеховством. Поэтому на советскую поддержку вроде той, что имел Горький, ему рассчитывать не приходилось.
Уйдя из ангажированной газеты на свой страх и риск, Толстой оказался бы вне лагерей, полностью независимым. Все выглядело бы исключительно пристойно — но отношения с кругом Горького были испорчены, у Ященко работал обиженный им Эренбург, бывшие московские друзья вроде Осоргина теперь тоже отошли от Толстых. С каким лагерем он бы смог теперь сотрудничать? Проситься в «правый» «Медный всадник» к Соколову-Кречетову?
Правда, как писатель он был востребован по обе стороны границы, широко печатался и в России, и в Европе, к тому времени уже начал переводиться на иностранные языки. Но смог бы он прожить на литературные гонорары, без регулярного заработка? Бунину он написал в ноябре 1921 г., уже из Берлина, что печатаясь в журналах, на жизнь не заработаешь, спасают книги. Однако в тот самый момент, когда он ушел бы из «Накануне», не сократились бы его российские тиражи и не упал бы интерес к нему у иностранных издательств?
Боялся ли он просто стать всеобщим посмешищем в том случае, если бы дал задний ход — или имел основания опасаться еще и мести своих теперешних работодателей? Современные исследования указывают на то, что курировали «Накануне» Крестинский и сам Сталин.[121] Дело было серьезное.
Мы не знаем, что произошло тогда, что решительно подвигло его в сторону возвращения. В это же самое время внезапная и необъяснимая метаморфоза происходит и с А.Дроздовым[122], который резко изменил свою прежнюю негативную позицию по отношению к «Накануне» и начал печататься в «Литературном приложении», одновременно осуждая эмиграцию. Дроздову, оставившему в тот момент свой журнал «Сполохи», власти тоже обещали новый журнал — но, как и в случае с Толстым, обещание не воплотилось в жизнь. А. Дроздов с Г. Алексеевым перешли на сменовеховские позиции и возвратились в Россию[123].
И однако, даже если тогда было решено (или потребовано свыше) вернуться, только в мае 1923 г. Толстой едет прощупывать почву в Россию. Одной из причин мог быть страх за новорожденного сына.
Но нам кажется, что Толстой был бы готов тянуть с отъездом и дольше, а собрался все-таки в ознакомительную поездку по причине политической: ХII съезд, состоявшийся в апреле 1923 г., на котором враждебный сменовеховству триумвират оказался хозяином положения, резко осудил русский национализм и сменовеховство как его форму. В решении съезда содержалась более враждебная оценка сменовеховства, чем раньше, и уже не говорилось о его полезности. Не оставалось сомнений, что дни его были сочтены, со всеми вытекающими отсюда выводами касательно берлинского книжного дела.
Эволюция «Литературного приложения». «Накануне» прежде всего была газетой политико-экономической, ориентированной на деловых людей, достаточно культурной: литературная хроника и некоторые рецензии публиковались в самой газете. Литературном приложение, с его подчеркнуто густым национальным колоритом, серапионовским бытом, буйной есенинщиной и острыми рецензиями Ветлугина поначалу выглядело в коммерческой газете ярким пятном. Однако, архаизм и «быт » должны были вскоре приесться. С осени 1922 г. начинает выходить Кино-приложение, которое выглядит живее и современнее и похоже, оттягивает к себе интерес публики.
Толстой, который и хотел бы уйти из газеты, да не смог, меньше чем через год после несомненно блестящего начала, видимо, успел потерять к ней интерес – да и авторы уже обходили его стороной. Приложение становится все периферийнее. Дело отчасти спасают стихи. Правда, Ахматова резко возражала против публикации своих стихов в «Накануне». Газета часто печатает Мандельштама, но больше всего – Волошина. В начале 1923 г. Волошин, ознакомившийся с «Новой Русской Книгой», которая отвечала его представлению о месте литературы «над схваткой»[124], прислал в Берлин А.И.Ященко в редакцию журнала большое собрание своих последних стихотворений, в сопровождении большого письма, где рассказывалось о терроре в Крыму. Ященко напечатал цикл стихов Волошина «Усобица» в «Новой Русской Книге» в феврале 1923 г. и летом того же года издал его книгу «Стихи о терроре». Из каких источников брала стихи Волошина «Накануне», еще неизвестно, но поскольку прямых контактов у Толстого с поэтом не сохранилось, то ясно, что это были перепечатки. Появляются в Приложении и стихи Мандельштама, Кузмина, Шенгели, Зенкевича, относительно которых также нет уверенности, что это первопубликации.
Однако, в отделе прозы чувствуется острая нехватка качественных материалов. Поэтому Толстой постоянно просит о прозе. В январе – начале февраля 1923 г. газета печатает роман молодого Катаева – вещь ниже всякой критики, и не слишком интересные фрагменты Соколова-Микитова и Пришвина. С марта начинаются переводы каких-то скучных немцев, прозаиков и искусствоведов. До осени 1922 г. в критике уровень задавал блестящий Ветлугин. Теперь в отделе критики Н. Петровская помещает неизменно положительные рецензии. При этом она постоянно превозносит самого Толстого, и несомненно заслуженно и искренне, но все-таки такое обилие похвал начальству несколько смущает: в декабре она поправляет Ф. Степуна[125], считавшего, что новая русская литература еще не поднялась до настоящей трагедии:
Творчество Андрея Белого, творчество нашей молодёжи, огромные преодоления Алексея Толстого, каждой строчкой распинающего «канунную литературу», на веки веков запечатленная трагедия Блока, хождение по краю бездны в поэзии Владислава Ходасевича – разве всё это уже не колокольный звон нового искусства?[126]
Илья Василевский, специализировавшийся на литературных разоблачениях, успевает, после своего злосчастного похода на Эренбурга, напечатать еще несколько разгромных рецензий, в том числе на Виктора Шкловского. Перед отъездом он публикует ругательный отзыв об Анатолии Каменском[127], который тоже вознамерился возвращаться.
В конце марта несколько оживляет дело второй приезд Есенина и Кусикова — опять по дороге за океан, на вторые американские гастроли. Тогда же Толстой дает в газету кусок из собственной «Рукописи, найденной среди мусора под кроватью». Приложение также публикует Л. Никулина[128] (московского секретаря редакции), В. Лидина, Г. Шторма.[129]. В апреле же возобновляется печатание очередного опуса Катаева. На этом фоне первомайский номер выглядит выгодным контрастом: тут Булгаков и Козырев[130]. Не зря Толстой взывает: «Шлите побольше Булгакова!»[131] (Тем не менее книга Булгакова, которую должно было выпустить издательство «Русское творчество», так и не выходит)[132]. Работа в Приложении, которое игнорируют все серьезные эмигрантские или «неприсоединившиеся» авторы, да и лучшая часть советских, и которое превратилось в удобную стартовую площадку лишь для честолюбивой, но разнокалиберной московской молодежи, все более теряет смысл.
В мае Толстой едет, наконец, на разведку в Москву.
Ему устраивают феерический прием. Действует неотразимый довод за возвращение: театр, обожаемый Толстым. 3 июня Приложение дает большую рецензию Ю. Слезкина на постановку «Касатки» Алексея Толстого в том же театре б. Корша, с теми же актерами, что и в дореволюционной постановке – Н. Радиным, М. Блюменталь-Тамариной, Б. Борисовым. Сообщение о том, что автор присутствует на спектакле, вызвало бурные аплодисменты. Толстой должен был поверить в то, что история описала полный круг и все вернулось на свои места. Год назад, в Риге, сам играя своего Желтухина перед русским зрительным залом, он, вероятно, почувствовал, чего он был лишен все эти годы, чего не мог дать ему парижский театр, даже самый лучший, самый новаторский – «Vieux Colombier» («Старая голубятня») Ж. Коппо, который хоть и поставил весной 1922 г. его «Любовь – книгу золотую», – с декорациями Судейкина и прекрасными рецензиями, – но по-французски, да ещё в одном спектакле с «Веселой смертью» Евреинова.[133] Перед отъездом из Берлина в 1923 г. он успевает отредактировать своего злополучного «Дантона», придавая пьесе приемлемое, как ему кажется, звучание, – чтобы её переиздать, и, конечно, немедленно поставить в России. Больше всего он хочет писать и ставить пьесы – и скажет об этом в своем первом же интервью на родине.
Именно писательскую востребованность выдвигал в качестве главного стимула в его поведении эмигрантский журналист и писатель В.П.Крымов[134] в своих воспоминаниях о писателе «Толстой без ретуши»:
Когда в Берлине издавалась сменовеховская газета «Накануне», Толстой, ища заработка, стал заведовать в ней литературным отделом. Как будто выходит, что, войдя редактором в сменовеховскую газету, А.Н.Толстой сменил вехи, а я уверен, что никаких вех он не сменял, потому что и прежде никогда, на всем его жизненном пути, никаких вех не было, был большой талант, стремление стать большим писателем, полностью пользоваться возможными благами жизни, и в газету «Накануне» он пошел только потому, что там предложили жалованье, какого нигде в другом месте не предлагали. И в Москву он уехал совсем не потому, что проникся коммунистическими идеями, а просто почувствовал и понял, что там может выдвинуться своим большим талантом и даже умением располагать к себе людей. [135]
По возвращении из поездки в Москву Толстой, очевидно, уделяет Приложению все меньше внимания. В нем все те же Дроздов, Соколов-Микитов и только что появившийся Р. Гуль[136]. Из советских авторов – Г.Шторм, Ю. Слезкин, Н. Никитин, опять Л. Никулин, Катаев и изредка – Булгаков. Целые номера заняты переводами с немецкого: здесь и рассказы Цвейга, и номер, посвященный Генриху Манну.
Заметку «Несколько слов перед отъездом» Толстой опубликовал 27 июля 1923 г. в газете. Уже 30 июля вместо очередного Приложения появляется «Литературная неделя» на внутренних страницах «Накануне». Проект свернули в тот же миг, как уехал Толстой. (Правда, газета еще около года продолжала существовать, и «Литературная неделя» через некоторое время опять стала приложением. Теперь ей заведовал Роман Гуль, привлекший своих друзей — Юлия Марголина[137], Вадима Андреева[138], Анну Присманову[139], Вл.Корвин-Пиотровского[140], Г. Венуса[141]).
Толстой знал, что интеллигенция в России плохо принимает идеи сменовеховцев. Это продемонстрировали лекции Ключникова и Потехина, тем летом опять поехавших на родину, пока с визитом, —об этом писала газета «Руль» 25 июля 1923 г. Как пишет Чудакова, «загадочные глаза» подсоветских интеллигентов, увиденные во время этой поездки, произвели впечатление на Ключникова. Неужели их не увидел Толстой? Неужели он не почувствовал раздраженной реакции публики на свои собственные выступления? Неужели общение с бывшими друзьями — например, с Г. Чулковым — не было достаточно красноречивым доводом?
Один сведущий пенсионер-долгожитель упомянул в беседе со мной о кличке «Живец», которой якобы обозначали его наблюдатели из органов. Скорее всего, это относится к более позднему времени, уже по возвращении. Можно по-разному смотреть на его отчаянный и несомненно во многом искренний патриотический порыв 1922 г. — письмо к Чайковскому. Но ясно, что в 1923 г. в Берлине Толстой сам уже наверняка понимал, насколько неприглядна отведенная ему роль, однако позволял советской власти продолжать использовать себя в качестве «живца» для множества людей, поверивших ему или очарованных его талантом или престижем. Это, разумеется, непростительно.
Кажется, его поведение во время «рекогносцировки» уже явно отражает невозможность искренней коммуникации — отсюда буффонная театральная маска, непроницаемая и агрессивная, которую с таким презрением живописует Булгаков в образе Измаила Александровича, отразившем впечатления о майской поездке Толстого в Москву.
А может быть, он не просто предвидел, а и прямо был предупрежден, что книжная ситуация в Берлине вот-вот обвалится и карнавал скоро закончится? Уже в конце 1923 года берлинское книгоиздательское дело начинает терпеть крах. Следующие этапы великой большевистской провокации, которая уже начала губить русский Берлин, забавно и точно угаданы в январе 1924 г. в злободневном фельетоне эмигрантского журналиста Н. Тасина «То, что будет»:
За столиками бойкого кафе в Латинском квартале, в Париже, сидят: издатель – широкоплечий богатырь в широком костюме, с широкими жестами, широкими перспективами и писатель из левых, которого одни большевики выслали из Совдепии, а другие корят за то, что он стал эмигрантом.
Издатель (не говорит, а грохочет, так, что даже с далеких столиков испуганно оглядываются на него): Факт, а не реклама, батенька! Разрешили! Сам читал! Черным по белому так и напечатано: «Советское правительство в принципе ничего не имеет против издания в Москве или Петрограде беспартийной газеты»… Вот! Вы понимаете, что это значит? Да тут такие перспективы открываются… Подумайте только, после стольких лет духовного голода, после всей этой свистопляски Маяковских да Есениных, после бухаринской «Азбуки»… Господи, да ведь тут рынок-то какой! Читателя-то сколько за эти годы выросло! Вы ему хорошую здоровую книжку или газету дайте – с руками оторвет! Вы шутите – что значит теперь свободная газета в России? Да ведь подписчик валом повалит! Не доест, а на газету подпишется… Свободная газета в России… Сочетание слов чего стоит! Даже голова с непривычки кружится, ей-богу!
Писатель (с легкой усмешкой): Что ж, благословляю! Поезжайте в Москву – и того…
Издатель: И поеду! И даже очень поеду! Такую газетину там сооружу, что мир еще не видал! Все эти «Пти-Паризены» да «Таймсы» карликами по сравнению с нею покажутся. Перед конторами тысячные хвосты подписчиков с утра до ночи толпиться будут. Советским Стекловым да Бухариным такая подписка и во сне не снилась, несмотря на все нажимы, субботники, недели пропаганды и т.п.
Писатель: А капиталы?
Издатель: Этого добра сколько угодно. Я уже кучу предложений получил. Американцы, вон, в компанию просятся, миллион долларов для начала предлагают… Шведское общество одно тоже… бумагу на льготных условиях даст… Разумеется, к такому делу с пустяками не подойдешь. Тут нужно en grand, чтоб трещало! Сотни контор, тысячи агентов, филиалы в самой глухой провинции…
Писатель: Какого же направления будет ваша газета?
Издатель (делая широкий жест, точно обнимая все направления): Кликну клич ко всей левой пишущей братии без различия сект и приходов. Добро пожаловать, всем место найдется!
Писатель: И большевикам?
Издатель: Разумеется! Наоборот, это-то и будет интересно. До сих пор ведь с ними какой разговор был? Совсем как с генералом из анекдота: ежели хочешь со мной разговаривать, молчи! Они на всю Россию куражились в своей прессе над инакомыслящими, помоями обливали, а те и отвечать не могли. Ну, а теперь уж извинитесь! Вы, господа большевики, изволите утверждать, что мы такие-сякие, изменники, прислужники международного капитала и пр., и т.п., так ведь это, господа хорошие, доказать надо, да-с! Опять же насчет диктатуры ихней… Тут, батенька, такие узоры развести можно!
Писатель: Так они вам и позволят!
Издатель: Не могут не позволить! Зубами скрежетать будут, а позволят, потому что такая линия подошла. Отдушина требуется. Крышку котла хоть чуточку приподнять надо, не то взрыв будет. Свободная газета будет для них своего рода предохранительным клапаном. Потому очень уж низы напирают. Тронулась Корёжина <цитата из «Кому на Руси жить хорошо» – Е.Т. >, помяните моё слово! И так тронулась, что уж не удержишь!
Писатель: Вашими бы устами да мёд пить!
Издатель: И будем пить. До пьяна! Только бы до конца дорваться. Увидите, как попрет читатель. Очень уж он по правдивому слову проголодался. Тут, батенька, такие возможности… Э, да что там! Чай, сами понимаете. Давайте лучше выпьем за свободное русское слово. Гарсон! (Гарсон, чуть не уронив от этого оклика поднос, испуганно подбегает).
II
Москва. В казенном кабинете, в огромном кресле, за огромным столом, заваленным бумагами сидит советский вельможа, супротив него, на стуле, издатель.
Вельможа: Всё это очень, очень хорошо. Мы, собственно, давно уже хотели… Вот понимаете, теперь мы настолько окрепли, что можем себе позволить… Я хотел сказать, что все эти демократии, свободы и пр., нам теперь уже не страшны. Что, издавайте себе вашу газету. Скажите, вы обеспечены?
Издатель: О, да! У меня контракт с некоторыми крупными шведскими и финляндскими фабриками, так что с этой стороны…
Вельможа: Это хорошо, очень, очень хорошо… (с минуту молчит, усиленно протирая платком стекла пенсне). Я только должен вас предупредить, что… – как бы это выразиться? – что вам придется поступиться частью вашей бумаги для нужд советской прессы…
Издатель: То есть как? Бесплатно?
Вельможа: Разумеется… Вы сами изволили указать, что нас мало читают. Наша пресса, между нами говоря, влетает нам в копеечку, а для вас, при ваших капиталах и открывающихся для вас возможностях, это такие пустяки… Не бойтесь, мы очень уж грабить не будем. Процентов, скажем, двадцать, двадцать пять. Об этом мы ещё поговорим. Вы человек умный – и должны понять: мы не можем допускать, чтоб ваша газета забила наши. А она очень даже может забить. Я, как вы видите, в прятки с вами не играю. Читатель, несомненно, валом к вам повалит, – и положение нашей прессы того… Так вот, нужно, по всей справедливости, хоть какая-нибудь компенсация, так сказать… Бумагой и, конечно, налогами… Я имею в виду специальное обложение… С каждого экземпляра, или как там… Это уж не по моей части. Меня в этом деле интересует принципиальная, так сказать, сторона. Какие у вас сотрудники намечены?
Издатель: Я полагал, что для вас это безразлично… Раз вы в принципе допускаете издания свободной газеты…
Вельможа: Да, но… Всему есть предел. Если б вы вздумали пригласть в сотрудники коноводов враждебных нам партий…
Издатель: Именно их-то я и пригласил.
Вельможа (ещё усиленнее притирая пенсне): А я именно их-то и отвожу… самым решительным образом. Не такие мы идиоты, чтобы пускать козла в свободный огород!
Издатель: Но в таком случае, какая же это будет свободная газета?
Вельможа: А вы среди dii minores поищите. Есть среди них очень талантливые люди.
Издатель (роясь в своём портфеле): Я вот, наметил тут Громова…
Вельможа (с живостью): Семена Антоновича? Что в зарубежной прессе работает?
Издатель: Он самый.
Вельможа: Ну уж, нет! Он хоть и не коновод, а человек ой-ой какой вредный! Кусака. Вам уж придётся устранить его.
Издатель: Гм… Жаль, его читатели очень любят. Я уж, ей-богу, боюсь вам другие фамилии называть.
Вельможа: А вы не бойтесь. Лучше теперь, чтобы потом недоразумений не вышло. Кто у вас там ещё?
Издатель: Блюменфельд, вот…
Вельможа: Это какой? Из бывшего с-р-овского ЦК? Да нет, что вы! Разве можно? Это наш злейший враг!
Издатель: Вот видите! Ну, а насчет Боброва что скажете?
Вельможа: Это что книгу недавно против нас выпустил? Ей-богу, вы как-будто нарочно… Такой подбор.. Точно шайку вербовщиков вербуете. (Встает и нервно начинает ходить по кабинету). Вы, по-видимому, хотите, чтоб ваша газета сыграла роль троянского коня. Посадив в него злейших наших врагов – и в самый Кремль! Нет уж, благодарю покорно! (Потом, круто останавливается перед издателем). А как же, все эти господа вам из-за границы писать будут?
Издатель: Нет, это что же такое будет? Я именно хотел просить, чтоб им всем разрешено было вернуться в Россию и… так сказать, гарантии известные… личной неприкосновенности, что ли…
Вельможа: Нет, нет и нет! Этот номер не пройдет. Это уж форменным заговором пахнет. Боюсь, что мы с вами каши не сварим. Впрочем, я поговорю кое с кем из коллег. Только вряд ли. Мы готовы идти на известные уступки, но всему есть граница. Вот что: вы мне ваш список дайте, мы его просмотрим и обсудим. Потрудитесь заглянуть ко мне завтра… Приблизительно в это же время… Пока что, не смею больше удерживать…
III
Полгода спустя. Париж. То же кафе в Латинском квартале. За столиком издатель и писатель.
Писатель: Не выгорело, значит?
Издатель: Черта с два выгорит при таких условиях! Сколько сил зря ухлопал! Налоги да поборы всякие, да бакшиши… Хуже, чем в Турции… А ведь дело какое грандиозное могло бы выйти! Отбою не было, ей-богу! До поздней ночи приходилось подписку принимать!
Писатель: Цензура донимала!
Издатель: Если б только цензура! Мы то уж, слава Богу, научились приспосабливаться к ней. Ну, понесешь к цензору гранки, поторгуешься, кое-что отвоюешь, кое-чем поступишься. Дело знакомое! А тут.. (в отчаяньи рукой машет). Вы понимаете, десятки, сотни цензоров! То Стеклов громы мечет, то Бухарин своих молодцов подсылает, то Сосновские да Мещеряковы хулиганствуют. Всех-то бояться надо, всякая мелкая сошка с протестами да угрозами лезет… Ну а потом и того хуже пошло: стали сотрудников арестовывать. Я к наибольшим: да вы ж неприкосновенность обещали! А те чисто по-византийски: мы, мол, бессильны, очень уж вы народ возмущаете! А что, говорят, арестов касается, так они ничего общего с газетой не имеют: установлено, что некоторые из ваших сотрудников в заговорах против рабоче-крестьянской власти участие принимали…
Писатель: Сбежали?
Издатель: Сбежишь тут! Самого чуть не сцапали. Насилу ноги унёс.
Писатель: А как же с бумагой, типографией и всем прочим?
Издатель: Всё там оставил. Теперь, вот, хлопочу, чтобы хоть что-нибудь обратно получить; да вряд ли: очень уж лакомый кусок! Ведь у меня всё на широкую ногу поставлено было, всё первосортное, первоклассное. Заберут всё это теперь Стекловы да Бухарины – и пойдут свою всем осточертевшую казенную канитель разводить. (С минуту сидит горестно задумавшись). Только ничего у них не выйдет! Придется им троянского коня пустить – и не одного! Такая уж линия подошла. Ещё нам же в ножки поклонятся: издавайте, мол, пишите! А только тогда уж мы им условия ставить будем. И такие мы газетины соорудим, что любо-дорого! Выпьем, что ли, за свободное русское слово! Гарсон! Да поворачивайся ты, чертова кукла! (Гарсон испуганно подбегает.) Ещё бутылочку за свободное русское слово![142]
Нашим современникам, многие из которых сами переживают эмигрантскую ситуацию, понятнее, чем предыдущему поколению, что эмиграция может сделать националистом и самого заядлого космополита – а Толстой и до эмиграции был националистом и веровал, что Россия переварит большевиков и только укрепится
Ф. Степун, встречавшийся с Толстым незадолго до возвращения, из высланных осенью 1922 г. интеллектуалов один принимал его национализм всерьез и лучше всех проанализировал смешанные мотивы возвращения Толстого. Он вообще глубоко понял личность писателя: вспоминая свою последнюю встречу с писателем в революционной России, в день Московского Государственного совещания, и их беседу о происходившем, Степун писал:
В этом разговоре Алексей Николаевич поразил меня своим глубоким проникновением в стихию революции, которой его социальное сознание, конечно, страшилось, но к которой он утробно влекся, как к родной ему стихии озорства и буйства.<…>Толстой первый по-настоящему открыл мне глаза на ту пугачевскую, разинскую стихию революции, в недооценке которой заключалась коренная слабость нашей либерал-демократии[143].
Степун предположил, что у сменовеховства Толстого имелись не только конъюнктурные, но и внутренние мотивы:
Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923-м году в Советскую Россию. Очень возможно, что большую роль в решении вернуться сыграл идеологический нигилизм этого от природы весьма талантливого, но падкого на славу и деньги писателя. Все же одним аморализмом толстовской «смены вех» не объяснить. Если бы дело обстояло так просто, мы с женою, только что высланные из России, вряд ли могли бы себя чувствовать с Толстыми<…>так просто и легко, как мы себя с ними чувствовали накануне их возвращения из Берлина в СССР.
Помню два перегруженных чемоданами автомобиля, в которых Толстой с женой и детьми отъезжал с Мартин-Лютерштрассе на вокзал. Несмотря на разницу наших убеждений и судеб, мы провожали Толстого скорее с пониманием, чем с осуждением.
Мне лично в «предательском», как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого, чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, весьма конечно загрязненная, но все же не отмененная теми делячески-политическими договорами. которые, вероятно, были заключены между Толстым и полпредством. Как-никак Алексей Николаевич ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском. даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по крайней мере. кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что в отрыве от ее стихии, природы и языка он, как писатель, выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытной жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией. [144]
Поэт Сергей Горный тонко передал эмоциональное впечатление от отступничества Толстого как от запретного потакания своим чувствам и инстинктам – потакания, ощущаемого как «кривой», морально неприемлемый, но чересчур понятный и очень «русский» поступок:
О земле
посвящается графу А.Н. Толстому
…ушел к хитроумцам и умелым землемерам, что вехи на обратный путь кривым путем-дороженькой расставлять начали, – ушел тот, кто сам был весь в запахах земли родной, в её бахроме, с пчелиным гудом в душе и колоннадой усадебной в прошлом, – ушел Толстой Алексей, – стало вдруг жутко и боязно, и тревожно. Как же так?
Есть охальники, есть сумы переметные, есть души сквозные и, пожалуй, не плохие, случайно лишь грим под «кино-мерзавца» взявшие, и потом этим гримом закокетничавшие: «жалко расстаться, очень уж роковой вид получается». Есть хитроумцы, быть может, нарочно сюда пошедшие, быть может, единую дорогу здесь увидевшие, дорогу конспирации, в иных путях уверенные, большие хитроумцы.
Но этот-то зачем с ними? Вальяжный и ровный, словно в дормезе по шоссе пыльному, вечереющему, над большими рессорами качаясь, путь проехавший. Сорвав ветку черемухи и обмахиваясь – вместе с «Хромым барином» – аллею дальнюю прошедший и потом вдруг рядом со мной тут же в густой солнечной траве очутившийся. И такой же шмелиный гуд слышит. И так же – если сухой сметень лиственный пальцем разобрать – чернозем жирный капает. И любит. Обратно хочет.
Как и я.
Вот идут они все по Курфюрстердамму. Все гладкие, хорошие. И русских среди них много. Все чистые, хорошие. И никто из них в «Накануне» не пошел. А вот идет среди них он. Не хороший, и что-то содеявший.
А вот ближе он мне своих, гладких и безгрешных. Весь он с симбирскими запахами, с дождями, крупно стучащими о балконную парусину, с садом, пахнущим после дождя влажною мятою, с зарницами – мгновенными взмахами божьих ресниц за округлым курганом над Волгою.
Свой. Родной.
И тогда всё понятно: пошел кривым путём, по сменовеховским колышкам, ибо сталкивалась душа, напружилась, затужевала, скорее путей захотела. В мелководье из чужих плоских отмелей – забилась. А, забившись, в первую полынью нырнула. Не разобрав, не досмотрев, не учуяв. Татарская, бунтарская, русская, давняя кровь.
И всё так понятно.
Захотелось обратно.
Стиснув зубы, топая ногой, хоть рядом с охальниками и людьми случайного звания, озорными попутчиками, может бы с самим Сатаной.
Вехи – эти преходяще. Вехи – это случайно. Да, это нехорошо, постыдно, где-то это запишется – на одну страницу толстовской бухгалтерии. Где седой Саваоф по двойной итальянской системе наши души разносит. Много им на минус он занесет. И слепоту, и недосмотр, и неопрятную небрежность. Но на другой странице положит Саваоф ароматную ветку черемухи, в садах надволжских сорванную. И покроет она много цифр и выкладок, и подсчетов разума. Раскроет он, Бог, эту страницу, а там шелест и гудение солнечное и травки спутанные над самой землей. Сметье прошлогоднее, листок в желтых подпалинах и бронзовой стыглости омертвелого гноя, сучки и корешки, а глубже – она, жирная и ясная, правдивая и конечная, Земля своя. Из-за неё всё делается.
И ошибки, и взлёты, и ползанье. На ней и смертельная тоска вдали. И слепота. Как у крота.
Так в землю обратно хочет, что слепнет.
Возжелал её, востосковал, сбился, запутался в постромках совсем завяз – но бьется, ведь на том же пути. Туда же, куда и я.
* * *
Вот идут они все по чужой, грохочущей, как латы ландскнехта, улице, <…> идут и много вокруг чужих, и все они хорошие, и ненужные.
А он, вот, не хороший, с ошибкою, большой-большой и не прощенною ошибкою, которую бухгалтер ему занесёт. Может даже чьей-то кровью впишет. А вот он – родной.
Даже страшно самому себе признаться, вслух сказать:
– Свой. [145]
И молодой берлинский прозаик Глеб Алексеев также отказывался от однозначного осуждения поступка Толстого, на который он, однако, в тот момент смотрел с глубоким скепсисом:
Гр. А. Н. Толстой в большевистской газете «Накануне». Мои встречи были бы неполными, если бы я обошел этот факт, по щелям и закутам эмигрантского мурья щелкнувший жутким выстрелом. Неутомимый рыцарь «заветов» Иван Иванович «заветы» эти как неугасимую свечу в изгнании блюдущий — учинил и еще учинит суд над писателем, «продавшимся прислужникам палачей», спросил и еще спросит со страниц бледнолицых газет своих:
— Зачем?
Но разве он, Иван Иванович, сам оплеванный по плешь за чужим столом, чужой гигантскому бегу жизни запада, все еще свято верящий пьяному шепоту Повитухи-Истории, набрехавшей ему в Тетюшах, что через 200 лет небо будет в алмазах, задумался хоть секунду над вопросом:
— Не зачем, а почему поступил так А. Н. Толстой, единственный из действенных писателей русских в этот жуткий час?
Ни защищать его, ни упрекать я не собираюсь. Каждому в революции вздет крест на шею, одному — людоедство, другому — холод и гибель у чужих, не греющих очагов. Креста своего он не донес, и не мы, а именно потомки наши ему не простят этого как человеку.
Четыре года писатели русские отделены друг от друга чертой. Одни там — на глазах у революции, бок о бок с ее корчами, повалившими старый русский быт, мечтающие о загранице как о земле обетованной. Ибо жизнь сегодняшней России оказалась сильнее творческого вымысла, гуще творческой фантазии, и чтобы понять и отразить ее — нужно подальше от нее отойти. «Я приехал сюда, работать», говорил по приезде в Берлин А. Белый. «Работать, работать, работать!» — рвался Федор Сологуб, но не вырвался.
«Сколько можно было бы там, у вас, написать!», мечтает Юр. Слезкин в одном из писем сюда. Писатели оттуда, чтобы остаться писателями, мечтают уйти за черту, убежать от страшной живой жизни, задавившей творчество.
Писатели здесь уже четыре года идут мимо чуждой душе их жизни «заграницы», втайне презирая ее, подсмеиваясь. Кто, кроме Бунина, заинтересовался жизнью чужого народа и написал о нем? Большинство прошло без любопытства, за эти годы не научилось даже языку. А меж тем вывезенный из России писательский запас таял: иные образы стерла и зачеркнула жизнь, иные побледнели, оторвавшись от родной почвы, иные уже использованы … Притока свежих струй нет. Источник вот-вот иссякнет.
— В Россию, пусть вшивую, но родную, пусть к людоедам, но покрытым своим, понятным небом!
Игра истории и судьбы: — писатели отсюда, чтобы остаться писателями, стремятся туда: и, золотым сном снится им оставленная Россия. Ибо для многих из них холод и медленное духовное умирание здесь страшнее сегодняшнего лица родины, больного, пронзенного струпьями проказы — и среди них гр. А. Н. Толстой.
Но, вернувшись, найдут ли они подлинное слово любви к ней и о муке ее? Те — за чертой — шедшие в согласный шаг с ее гибелью — пока ведь, не нашли![146]
Отъезд Толстого из Берлина отражен в ряде воспоминаний. Тэффи побывавшая в начале 1923 г. у Толстых, скептически написала о Крандиевской: «А Наташа все покупала какие-то крепдешины и складывала их в чемоданы, обреченно вздыхая.
— Еду сораспинаться с русским народом.»[147]
Похожая фраза, однако, запомнилась современникам как сказанная в том же году и тоже перед отъездом, но совсем другим человеком — а именно, А.Белым. Ходасевич вспоминал:
Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: «Борис Николаевич, когда вы приедете в Москву, не ругайте нас слишком». В ответ Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас «пойти на распятие» (курсив автора —Е.Т.). «Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил., но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не вправе и такого «мандата» ему дать не можем[148].
У Берберовой этот эпизод звучит так:
8-го сентября <…> вечером был многолюдный прощальный обед. <…> Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходасевича, Муратова[149], Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева[150]…Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.
—Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте речи. —Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения. [151]
Кажется, что претенциозная фраза, вложенная Тэффи в уста Крандиевской в воспоминаниях, писавшихся двадцать лет спустя, появилась под воздействием рассказов именно об этом эпизоде. Однако по сути это то же настроение, которое описывает Бунина: главной нравственной потребностью для Крандиевской было облегчить положение родителей и сестры. Стремлению помочь родным в тяготах не противоречила покупка «крепдешинов», невесомых и дорогих — нужно вспомнить о том, что «отрез» был эквивалентом валюты. Наверняка список того, что нужно привезти, был согласован. Здесь интереснее всего то, что уже в январе Толстыми был вроде бы принят твердый практический курс на отъезд в Россию — а отъезд все задерживался.
Считая, что решение вернуться было величайшим риском, а вовсе не отъездом на обеспеченные хлеба, Степун был прав. Толстой рисковал – российская политическая литературная ситуация стремительно и неуклонно ухудшалась и скоро 1923 год уже казался праздником неслыханной свободы. Писатель быстро почувствовал несвободу, цензурный гнет – а в тридцатых и страх преследований. Из возвращенцев-сменовеховцев выжили единицы. Немудрено, что его творчество оказалось в глубоком упадке – ни одной литературной удачи до 1929 г., когда появилась первая книга «Петра». Вспомним, что ХVIII век каждый раз возникал в его творчестве в ответ на кризис. И на этот раз история не подвела: первый том «Петра» можно рассматривать как чудо восстановления себя из полного распада.
Горький с определенного момента в 1923 г. явно не одобрял Толстого. На поздравительное письмо его с предложением сотрудничать в «Беседе» Толстой ответил 29 января (возможно, какие-то промежуточные послания до нас не дощли) следующим удивительным образом:
Дорогой Алексей Максимович,
позавчера был доклад Белякова о деятельности Всероссийского союза работников печати. На собрании было предложено образовать в Берлине секцию Союза для защиты прав, труда, организации информационного бюро, бюро переводов, кассы и пр. Вчера на заседании президиума секции единогласно постановили просить Вас быть почетным председателем Берлинской секции Вс<ероссийского> союза раб<отников > печати. Ваше возглавление имеет чрезвычайное значение. Пожалуйста, дорогой Алексей Максимович, согласитесь. Передаю Вам это по постановлению временного президиума бюро.
Ваш Алексей Толстой[152].
Толстой выступает здесь как член мощной корпорации, воскрешающей те общественные ценности, которые когда-то пытались внедрить в литературный процесс именно Горький со «знаньевцами» — социальную защиту литературного труда. Это ответ на приглашение Горького сотрудничать, и ответ чуть ли не свысока. Соблюдена полная симметрия — Горький тоже писал ему: «согласитесь». Одновременно Толстой — простая передаточная инстанция, и спрос как бы не с него. Однако этот новый официальный тон Толстого и сам по себе уже сообщает, что предложения Горького не приняты всерьез.
Горький соответственно и отреагировал на это послание — он написал на нем: «Гей-гей! — сказали святые апостолы. Из Густава Даниловского[153]: «Святая Магдалина» (Там же).
На самом деле у Даниловского эта фраза звучит так: «При упоминании о родных лугах апостолы радостно от всей души воскликнули хором:
— Гей, по ранней по росе, гей!»
Так Горький подчеркнул немыслимую, неправдоподобную наивность просьбы Толстого, предполагающую и в нем самом подобную детскую наивность.
Вскоре Горький раздраженно писал Е.П.Пешковой о возвращении Толстого в Берлин из предварительной поездки в Москву: «Приехал Толстой; все говорят, что поездка в Россию отразилась на нем очень плохо. Зазнался[154].» Фактически это был разрыв, и на много лет.
Однако, и его собственный кружок вскоре частично последовал за Толстым в Союз, как Белый и Шкловский, или же перебрались в Париж, как поступил Ремизов, а, позднее, и дольше всего остававшийся с ним Ходасевич.
 ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
[1] Примочкина Н. Горький и писатели русского зарубежья. М.2003.
[2] Толстой А.Н. Переписка. В.2 т. Т.1.С.
[3] Указ. соч. Т.1.С.287.
[4] «От лукавого» – назовет свою книгу стихов этого времени Наталья Крандиевская. Книга выйдет в Берлине 1922 г.
[5] 22 марта 1920 г. Устами Буниных, Т.2, 1981. С.8. Мы видим, что Бунин здесь предъявляет архаизаторские претензии Алексею Толстому, резко не одобряя символистские обертоны в «Хождении по мукам». Очевидно, ему не понравилось вновь написанное историософское вступление с его цитатным, почти центонным характером: первый, газетный вариант начала романа — без этого вступления — он наверняка читал перед отъездом из Одессы.
О. Михайлов так развивает это мнение: «Там, где Толстой шел от жизни и живых впечатлений, — получались блестящие страницы, не уступающие классике XIX века, а по силе изобразительности, свежести, соку, выпуклости рисунка содержащие в себе то сокровенно-толстовское, что принес в отечественную словесность этот замечательный художник. А вот когда он писал о том, что знал понаслышке, брал «из вторых рук», приходилось напускать символистского туманца, например в изображении большевиков. И сразу появлялась книжность, вторичность и просто художественная неправда». Критик забыл, что изображения могут быть «сочными» и «выпуклыми», но при этом совершенно лживыми – ср. остальные тома трилогии. Михайлов О. Н. Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана… М., 2002. С. 343.
[6] Вишняк Марк Вениаминович (1883—1977) — эсер, общественный деятель и журналист.
[7] Алданов Марк Александрович (настоящая фамилия Ландау, 1889-1966) — исторический романист, один из ведущих прозаиков эмиграции.
[8] Львов Георгий Евгеньевич (1861-1925) – князь, один из руководителей Объединенного комитета Земско-городского союза, кадет, член I Государственной думы, глава Временного правительства (март-июнь 1917), представитель Омского правительства в США и Западной Европе. Эмигрировал в 1918 во Францию, возглавлял Русское политическое совещание в Париже. Толстой его любил и оставил его превосходный портрет в повести «Эмигранты».
[9] Чайковский Николай Васильевич (1850-1926) общественный и политический деятель, народник, организатор религиозной коммуны в Америке, вернулся в 1907, создавал кооперативное дело, стал кадетом, затем народным социалистом. Член Учредительного Собрания. Один из создателей «Союза Возрождения России». Возглавлял Северное коалиционное правительство в Архангельске. В Париже с 1919, был членом Русского Политического Совещания, выступал за интервенцию.
[10] Нольде Борис Эммануилович, барон (1876-1948) – ученый-юрист и дипломат. До революции юрисконсульт МИДа. Один из авторов манифеста великого князя Михаила Александровича об отречении от престола, товарищ министра иностранных дел. Призывал к миру с Германией. В 1918 г. входил в «Правый центр». Эмигрировал в 1919. В 1920 член Парижской группы кадетов, позже от политики отошёл. Достойно вёл себя во время оккупации Франции. С 1947 председатель Международного института права.
[11] Анри Виктор — французский психолог, профессор и секретарь Русской Школы Общественных наук в Париже (1901-1906).
[12] Переписка. Т.1.С.288.
[13] 17/ 4 апреля 1920. Устами Буниных, Т.2, С.9.
[14] Гессен Иосиф Владимирович (Савельевич) (1865-1943), глава берлинского издательства «Слово» (с 1920), издатель газеты «Руль» (1920-1931), «Архива русской революции», мемуарист.
[15] Там же, С.10.
[16] Контрапунктом к этому реконструируемому сюжету может быть история того, как «Русская земля» в ноябре 1921 г. выбросила из своего плана уже объявленную книгу И.Ф.Наживина «Новые рассказы» после того, как автор засыпал Бунина письмами с антисемитскими нападками на руководителей издательства — см. публикацию писем Наживина: С двух берегов. Русская литература ХХ века в России и за рубежом. М.2002. С.301-302.
[17] Полнер Тихон Иванович (1864-1935) – журналист, историк, издатель, в Париже с 1919 г., после «Русской земли» был соредактором журналов «Голос минувшего» и «Борьба за Россию».
[18] Поляков Александр Абрамович (1879-1971) — русский эмигрантский журналист, сотрудник «Последних новостей».
[19] Там же. С. 35–36.
[20] Устами Буниных.Т.2.С.37.
[21] Новый журнал. 1965. №80. С.261.
[22] Алданов М.А. Девятое Термидора. Берлин, «Слово», 1923. С.112.
[23]Флейшман Л. и др. Русский Берлин 1921-1923. С. 106-107.
[24] Клод Ане (Жан Шопфер, 1868-1931), французский писатель.
[25] Толстой А.Н. Собрание сочинений в 10 т., Т.10. М. 1986. С.22 и сл. Эта рецензия, вышедшая 29 сентября 1920 г. в «Последних новостях», знаменует начало его сотрудничества в газете, где следующей осенью появятся его мемуарные очерки о Гумилеве и Блоке.
[26] Гржебин Зиновий Исаевич (1877-1929) — художник, в эмиграции в Берлине стал крупнейшим издателем русской литературы.
[27] Ладыжников Иван Павлович (1874 -1945) —издатель, сотрудник Горького, в 1905 организовал социал-демократическое издательство в Женеве, оно действовало в Берлине до войны. После 1921 реанимировал его под названием «Книга». По окончании НЭПа остался руководить им, превратившимся в официоз «Международная книга».
[28] РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 33. Д. 243. Л. 1. Копия на правах подлинника. Машинопись.
[29] Тихонов А.Н. (1880-1956) — издатель, мемуарист, близкий к Горькому.
[30] Письмо Горького Ленину от 22 ноября 1921 г. // Неизвестный Горький. М., 1994. С. 41.
[31] Последние новости, 15 нояб. 1921 г.
[32] Львов Владимир Николаевич (Львов 2-й,1872-1934) – «октябрист», депутат 3-й и 4-й Дум, обер-прокурор Св. Синода во Временном правительстве. В эмиграции в 1921 г. примкнул к «сменовеховству», выступил в Париже с докладом на тему «Советская власть в борьбе за русскую государственность», в 1922 вернулся на родину, занимался церковной политикой, в 1927 арестован и выслан в Томск.
[33] Бобрищев-Пушкин В.Д. (1875-1958), адвокат, тов. председателя партии октябристов. Писал под псевдонимом «Громобой». В 1918 г. был защитником В.Пуришкевича на его процессе. В 1919 г. бежал на юг и служил в органах пропаганды армии Деникина (ОСВАГ). Участник сборника Смена вех. Окончательно вернулся в СССР в 1923 г. Был членом Ленинградской коллегии адвокатов. Во время «чисток» был арестован и пробыл в заключении около 8 лет. Освобожден в 1946 г.
[34] Петр Рысс. 18 нояб. 1921, с. 2. Автор так определяет братальщика: «самый завалящий мужичок, при помощи которого большевики разлагали армию. Лозунг: «Долой буржузиат, да здравствует враг!» Нынешний эмигрантский братальщик усвоил старую программу» (Там же).
[35] Эренбург Э. Люди, годы, жизнь. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8. М., 1966. С. 386.
[36] Крандиевский Ф. Рассказ об одном путешествии // Звезда, № 1, Л., 1981. С. 163. Цит. по: Попов В., Фрезинский Б. Указ. соч. Т. 1. 1891–1923. СПб., 1993. С. 211.
[37] Ветлугин А. Сочинения; Записки мерзавца. М., 2000. С. 144.
[38] Приблизительно тогда же в споре, развернувшемся вокруг сменовеховства, молодой эмигрантский писатель Александр Дроздов писал в редактируемом им журнале «Сполохи», в тот момент еще осуждая сменовеховство Толстого: «…уход писателей в “Накануне” необычайно согласен с мыслями об осиновом коле, который вбит литературой в нездоровое свое “вчера”. Здоровье предполагает прямоту совести <…> Чем крепче будет мужать здоровое начало в словесности, тем здоровее станет атмосфера вокруг нас, тем скорее гр. Толстой – истинно наш по писательству своему – в последний раз захлопнет двери случайной своей редакции». (Дроздов Александр. « Мысли о здоровом». // Сполохи, №9, июль 1922. С.24-25.) Однако, вскоре и сам Дроздов тоже присоединился к сменовеховцам.
[39] Устами Буниных, Т.2, С. 36-37.
[40] Указ.соч. С.38.
[41] Ключников Ю. Единый куст. Драматические картины из русской жизни 1918 года. «Книгоиздательство писателей в Берлине».1923. Содержание ее излагается у Чудаковой М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.1988.С 265.
[42] Дон-Аминадо.Указ.соч. с. 666.
[43] Балавинский Сергей Александрович. адвокат, в 1917 пом. начальника дапартамента полиции в Петрограде, затем в эмиграции, деятель Союза городов.
[44] Устами Буниных. Т.2. С. 26–27.
[45] Указ.соч. С.15.
[46] Михайлов О. Указ.соч. С.347.
[47] Устами Буниных,Т.2, С.38.
[48] Указ.соч. С.39.
[49]Крандиевская-Толстая Н.В. Грозовый венок. С.69.
[50] Крандиевская Н. Грозовый венок: Стихи и поэма. СПб: Лицей, 1992. С. 49, 51.
[51] Там же. С. 51.
[52] Там же. С. 52.
[53] Там же.
[54] Там же. С. 54.
[55] Бакунин Михаил, эмигрант, один из трех управляющих имением Союза городов в Камбе (с адвокатом С.Балавинским и поэтом В.Ладыженским).(вставить даты — см. «Бакунины», 2005)
[56] Это письмо обычно цитируется по воспоминаниям Крандиевской: Указ. соч. С. 193.
[57] Сергей Аполлонович Скирмунт (1863—1932) — московский миллионер, меценат, друг Горького. В 1899 году основал издательство. Был близок к большевикам. В 1902 г. был арестован и заключен в тюрьму, в 1903—1904 гг. находился в ссылке в Олонецкой губернии. В 1905 г. субсидировал газету большевиков «Борьба». Владелец книжного магазина «Труд», разорившегося в 1907 году (см.: С. Минцлов. «Петербургский дневник». На Чужой Стороне. Историко-литературные сборники. IX. Берлин—Прага, 1925, стр.154. Ср. также: С. Р. Минцлов. Петербург в 1903—1909 годах. Рига, 1931, стр. 238—239). Семья Крандиевских жила в 900-х годах в его доме в Гранатном переулке в Москве (Н. Крандиевская-Толстая. Воспоминания. Л., 1977, стр. 20—24). Скирмунта упоминает Бунин в связи с появлением А.Н. Толстого в эмиграции: «…приехал в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом» (цит. по изд.: И.А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 9, М., 1967, стр. 440. См. также: «Третий Толстой» в кн. Воспоминания. Париж, 1950).
[58] Баранов В. Революция и судьба художника. А. Толстой и его путь к социалистическому реализму. М., 1983. С. 141.
[59] Примочкина Н. Указ.соч. С. 110-111.
[60] Крандиевская Н.В. Указ. соч. С. 55. Напомним о том, что в Москве от холода и голода умер новорожденный первенец сестры поэтессы – Надежды (Дюны). Это стихотворение написано в те несколько ноябрьских дней, что семья Толстого провела в Берлине.
[61] «Гр. Ал. Ник. Толстой». «Сегодня» [Рига], 1922, № 26 (2.02). С. 3 <в рубр.: «Хроника»>; см. также:[Б.п.] Вечер Ал. Толстого. «Сегодня», 1922, № 27 (3.02); Граф Алексей Толстой. «Сегодня», 1922, № 29 (5.02). С. 3.
[62] «Граф Алексей Толстой». «Сегодня», 1922, № 30 (7.02). С. 4.
[63] П. (П.Пильский). «Вечер Ал. Толстого». «Сегодня», 1922, № 31 (8.02). С. 4.
[64] Театр и жизнь (Берлин) №8. 1922. С.15.
[65] Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892-1975) — прозаик, начал писать в 1912, испытал влияние Бунина. В 1919 плавал матросом на русском пароходе, оказался в Англии, в 1921 г. перебрался в Берлин, вернулся в 1922. Английские впечатления отразил в повести «Чижикова лавра» (1926). Роман «Нил Миротворчатый», который упоминает Пильняк, ни в каких библиографиях не отражен. В советское время держался в стороне от литературной жизни. Жил в деревне.
[66] Дон-Аминадо. Ук.соч., с. 667 — 668.
[67] Флейшман Л. и др. Русский Берлин 1921–1923. С.32.
[68] Гуль Р.А. Я унес Россию.Т.I. С.98-199.
[69] Яблоновский Александр. «Жертва советского темперамента». Газ. «Возрождение», 15 сент. 1929. Цит. по Флейшман Л. и др. Русский Берлин 1921–1923. С. 174. Ср. замечание М.Соколова-Микитова в письме к А.Ященко: «И вообще, Пильняк служит» (курсив автора — Е.Т.). Указ.соч. С.193. Ср. также Горская Е. Б. Пильняк и русский Берлин в 1922 году (по материалам советских и зарубежных изданий). ЦГАЛИ СССР // Б. А. Пильняк. Исследования и материалы. Вып. 1. Коломна, 1991. С. 75. Воронцова Г.Н. Об одной командировке Бориса Пильняка (Пильняк и А. Толстой) // Борис Пильняк: опыт сегодняшнего прочтения. Москва. «Наследие». 1995. С.117-125.
[70] Письмо И.Эренбурга М. Шкапской. 5 мая 1922 г. // Фрезинский Б. Хроника…С. 250.
[71] Заграница. (Воспоминания Г.В. Алексеева и очерк Б.А. Пильняка). Публикация Е.И. Горевой.// Встречи с прошлым.Вып.7. С.192-193.
[72] Грабовски Инго. «Контроль и руководство»: литературная политика советской партийной бюрократии в 1920-е гг. // Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов. М., 2002. С. 20–22.
[73] Новая русская книга, № 4, 1922. С.11-12.
[74] Грабовски Инго. «Контроль и руководство»: литературная политика советской партийной бюрократии в 1920-е гг. // Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов. М., 2002. С. 20–22.
[75] Накануне. Еженедельник политики, литературы и общественной жизни. Берлин 1922-1924.
[76] М.Алданов, действительно, прожил 1922-1923 гг. в Берлине. О его неудачной попытке общения с Толстым см. ниже.
[77] Алданов М. Там же.
[78] Русский Берлин, С.189.
[79]Толстой А.Н. Автобиография <1932>. РГАЛИ, ф. 1624, опр. 2, ед.хр. 27.
[80] Примочкина Н. Гл. «Работа ”вехистов” мало кого убеждает».Ук соч., С.95-107.
[81] Примочкина, С. 113-114.
[82] Примочкина, С. 59-60.
[83] Баранов В. Там же. С. 163.
[84] Примочкина, С.116.
[85] Письмо А.П.Пинкевича 17 июня 1922 г. Примочкина, С.115.
[86] Набоков В. Подвиг. Цит. по: В. Набоков. Русский Период. Собрание сочинений в 5 томах. Т.3 (1930–1934). СПб: Симпозиум, 2000. С. 200–202.
[87] Русский Берлин, С. 184, прим.21.
[88] Миндлин Эмилий Львович (1900-1981), московский поэт, прозаик, мемуарист. Описал свою работу в «Накануне» в кн. «Необыкновенные собеседники» (1979).
[89] Левидов Михаил Юльевич (1892-1942) — журналист, сотрудник «Летописи», затем, в 1917, «Новой жизни». В 1918 зав. Бюро печати НКИД, затем корреспондент РОСТА в Ревеле, Лондоне, Гааге. Заведовал иностранным отделом ТАСС, был влиятельным крайне левым критиком, в 1924 г. сблизился с «Лефом», выступал за организованное понижение культуры. Автор превосходного исторического романа о Свифте (1939). Репрессирован.
[90] Русский Берлин. С.76-77.
[91] Указ. соч. С.180.
[92] Указ. соч. С.185. прим. 26.
[93] Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж 1980. С.170.
[94] Флейшман Л и др. Русский Берлин 1921-1923. С.44–45.
[95] Кирдецов Г.Л. (И.Э.Фиц-Патрик), экономист, сотрудник дореволюционных либеральных изданий, сотрудничал в Энциклопедическом словаре Брокгауз-Эфрон и Еврейской энциклопедии. В 1919 г. прибыл в Таллин в качестве английского корреспондента. Был редактором отдела агитации и печати Политического совещания при Юдениче. Издавал газету Свобода России. Впоследствии пресс-атташе советского посольства в Италии, активный сотрудник журнала «Международная жизнь» в 1926—1927 гг. Ср. его несимпатичный портрет у Гуля:
«Редакция «Накануне» занимала обширное помещение. Меня приняли С.С. Лукьянов и Г.Л. Кирдецов. Профессор Лукьянов — сын быв. обер-прокурора Святейшего Синода. Человек воспитанный, довольно молодой, среднего роста, лицо как лицо, ничего примечательного. Но Г. Л. Кирдецов мне сразу не понравился. Он был уже в годах, отталкивающей внешности (Кирдецов — это был, кажется, псевдоним). По всем своим манерам он был типичнейший, видавший всякие виды и во всех водах мытый газетчик. В эмиграции он издал книгу «У ворот Петрограда» (1919-20 гг.) — о наступлении генерала Юденича на Петроград. Потом болтался где-то в Прибалтике, ни с какими сменовеховскими писаниями никогда не выступал и вдруг… оказался в редакторском кресле «Накануне»? Кончил тоже, кажется, вполне благополучно, уехал в Москву, где работал в «наркоминделе»». Роман Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. I. «Россия в Германии». Нью-Йорк, 1984. С. 200. Гуль ошибся — Кирдецов был репрессирован в 1938 г.
[96] Переписка А.Н.Толстого. Т.1. С.335.
[97] Указ.соч.С.331.
[98] На самом деле Замятин тогда арестован не был. В.А. Кугушев не был убит. Валентин Платонович Зубов (1884—1969) – граф, искусствовед, основатель Института истории искусств в 1912 году в Петрограде, в эмиграции написал воспоминания: «Страдные годы России». Вместе с перечисленными в письме философами был выслан осенью 1922 г.
[99] Переписка А.Н. Толстого. Т. 1. С.337.
[100] Эту атмосферу хорошо изобразил хроникер самой «Накануне» — почти наверняка это был Ветлугин: молодежь из газеты посмеивалась над «Домом искусств» и противопоставляла старикам молодого Есенина:
В Доме Искусств.
Был в Берлине Дом Искусств – благонамереннейшее учреждение, всячески – и литературно, и политически. и гастрономически. Послушав речи писателей в Дому, Гейне сказал бы свое: «Все суп да суп и никогда жаркое. И клецки в супе тоже никогда.» Роль этих клецок в гастрономическом вареве Дома Искусств играли Эренбург и Белый – однако, и они оченьчасто теряли здесь относительную свою плотность, растекаясь по ритмическим, вещным и антропософским тонкостям, и растворяя берега свои в исконной стихии Минского – в абсолютной текучести. Когда литературная Москва задумала несколько поперчить берлинское варево, она кинула в него — большой лавровый лист, Ремизова, и имажинистскую перчинку, Кусикова. Однако, лавры в Берлине пришлись не ко двору, а перчинка так и осталась непроваренной. Горькая, жесткая и – сама по себе.
Был в Берлине Дом Искусств и – оканчивался. Вы знаете то приятное расположение духа, с каким хозяева провожают в переднюю скучноватых гостей? Именно с такой приятностью собрались в минувшую пятницу привычные сотрапезники. Вечер отходил. Ал. Толстой зачитывал превосходные свои воспоминания о Гумилеве. В них хорошо – приподнятость и отрешенность от обычных мерил, юмор. глаз художника – глядящего на художника же.
И вдруг – аплодисменты. Минский – восставший против себя самого – радостно возвестил: пришел Есенин <…> Старый хроникер. Накануне. 14 мая 1922 г.
[101] А. Бахрах. По памяти, по записям. (Новый журнал. 1978. Кн. 52. С. 190–191; Кн. 53. С. 364–370) .
[102] Примочкина Н. Указ. соч. С.118-119. Флейшман Л. и др. Русский Берлин 1921-1923, С.45.
[103][103] Петровская Нина. «Красная новь. Книга вторая. Март-апрель, 1923. Государств. изд.» // Литературное приложение к «Накануне» №49. 22 апр. 1923 г. С.6.
[104] Сергей Алексеевич Соколов (литературный псевдоним Сергей Кречетов) (1878—1936) юрист, символист «второго ряда», издатель: основатель и владелец издательства «Гриф»(1903-1915), один из основателей журналов «Золотое Руно» и «Перевал», издатель «Стихов о Прекрасной Даме» Блока и др. Геройски воевал. В Ростове был одним из руководителей ОСВАГа. В 1920 – 1921 гг. в Париже. В Берлине в 1922 -1924 гг. руководил издательством «Медный всадник». См. о других аспектах его деятельности в Берлине: Будницкий Олег. «Братство Русской Правды»: последний литературный проект С.А. Соколова-Кречетова.// НЛО, 2003 N64.
[105] Владимир Александрович Амфитеатров-Кадашев (1888-1942), сын известного писателя, популярый эмигрантский романист и публицист. Его ультра-консервативные “Записки контрреволюционера” и дневники времён гражданской войны — ценнейший исторический источник — остались неизданными.
[106] Сергей Горный (Оцуп Александр Авдеевич, 1882 — 1948) — прозаик, поэт-сатирик. Печатался с 1906 года. Служил на черноморском флоте добровольческой армии. С 1922 года в Берлине, с середины 30-х в Париже.
[107] Лукаш Иван Созонтович (1892-1940) —эмигрантский прозаик.
[108] Струве Глеб Петрович (1898-1985) — русский эмигрантский литературовед, историк эмигрантской литературы, сын П. Б. Струве. Служил в Добровольческой армии, с 1918 г. в Англии, учился в Оксфорде, затем жил в Праге, Берлине и Париже. С 1932 преподаватель Лондонского университета; с 1946 г. в США, преподавал русскую литературу в Беркли.
[109] Там же, С.344-345.
[110] Пинкевич Альберт Петрович (1883—1939), советский педагог, профессор (1918), доктор педагогических наук (1935).
[111]Тарле Евгений Викторович(1876-1955) — крупнейший русский историк, академик.
[112] Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934) — исследователь буддизма, организатор отечественной ориенталистики, академик.
[113] Архив А.М. Горького. Т.8.С.334.
[114] Переписка Тэффи с И.А. и В.Н. Буниными. Публикация Ричарда Дэвиса и Эдит Хейбер. Диаспора I. 2001. С.. 369.
[115] Набоков В. Там же. С. 241.
[116] Тэффи.Печальное вино. Там же.
[117] Крестинский Николай Николаевич (1883-1938) — советский дипломат, в 1921-1923 полпред России в Берлине, репрессирован как «троцкист».
[118] Михайлов О. Указ. соч. С. 172. Наверняка имели — Тэффи вспоминает:
«Не знавший о радикальной “смене” Алданов приехал в Берлин, зашел к Толстым. У них сидел какой-то неизвестный господин. И вдруг среди разговора выяснилось. что господин этот самый настоящий большевик, да еще занимающий видное положение. Толстой потом рассказывал, будто Алданов вскочил и пустился бежать, забыл захватить шляпу. Толстой погнался за ним по улице, крича: “Марк! Шляпу возьми! Шляпу!” Но тот только припускал ходу. Потом оказалось, что историю эту Толстой изрядно подоврал». //Тэффи. Печальное вино. Рассказы, фельетоны, воспоминания. Воронеж. Изд-во им. Е.А.Болховитинова. 2000. С.532.
[119] Ср.: «Начальником отдела ГПУ при Сов. Предстве назначается бывший заведующий Экономическим отделом Бустром. Его помощником назначается Проскуровский (бывший заведующий Польским сектором и иностранными контрразведками). Эти лица и по настоящее время состоят в названных должностях, значась в Представительстве под указанными фамилиями.» (Здесь отражено положение на 1923 г. — Е.Т.) Фельштинский Ю.Г. , ред.-сост. ВЧК – ГПУ. Документы и материалы. М. 1995. С. 236. В справочниках он значится как «легальный резидент А.В.Логинов-Бустрем, 1923-192?».
[120] Как считал Н. Брыгин, осуществивший увлекательную реконструкцию тех же событий – а именно деятельности большевистского агента графа де ла Фара, русского француза, поэта и большевика-интернационалиста – в своем посмертно изданном художественном исследовании: Брыгин Н. «Тайны, легенды, жизнь» // Где обрывается Россия. Художественно-документальное повествование о событиях в Одессе в 1918 — 1920 гг. Предисловие, комментарии Е.Л. Яворской. Одесса, 2002. С. 410 — 488.
[121] Воробьев О. А. «Третий путь» сменовеховства. Обзор парижского еженедельника «Смена вех» за 1921-1922 гг. Автор утверждает это на основе архивных данных. (http://voa.chat.ru.change.htm).
[122] Дроздов Александр Михайлович (1895-1963) Писатель-эмигрант. Возвратился в Россию в 1923.
[123] Р. Гуль считал, что к их внезапному возвращению причастен Б.Дюшен (Указ. соч. С.205-206.
[124] Русский Берлин, 1921-1923. С.64-65.
[125] Степун Федор Августович (Степпун Фридрих,1884-1965) — русский, затем немецкий философ, культуролог, социолог. Русский мемуарист и прозаик. Окончил Гейдельбергский университет (1910). Редактор международного философского журнала «Logos» (1910-1914). Выслан из России в 1922 г. Профессор в Дрездене (1926-1937) и в Мюнхене (1947-1965). Один из редакторов журнала «Новый град» (1931-1939).
[126] Петровская Нина. «Трагедия и современность» (Лекция Ф. А. Степуна). Литературное приложение к «Накануне». №31, 17 декабря 1922 г. С. 7.
[127] Каменский Анатолий Павлович (1876-1941) — прозаик, драматург, автор знаменитого «порнографического» рассказа «Леда» (1907), переделанного им в пьесу с показом обнаженного тела, делавшую фурор в годы революции. Эмигрировал, но вернулся в 1923 г., умер в лагере.
[128] Никулин Лев Вениаминович (Ольконицкий Лев Владимирович, 1891–1967), писатель и журналист, учился в Сорбонне (1910–11) печатался с 1910. В 1917-18 гг. бывал в салоне С. Кара-Мурзы. В 1921–23 гг. с советской дипломатической миссией находился в Афганистане. В 1920-е-1930-е гг. курсировал между Москвой и Парижем. В оттепель прославился романами из жизни спецслужб.
[129] Шторм Георгий Петрович (1898-1978) — плодовитый исторический писатель, драматург. С 1921 года в Москве, был близок к эзотерическим кружкам. В 1920-1930-х переводил «Слово о полку Игореве». В 1960-х написал исторические исследования о Ломоносове и Радищеве.
[130] Козырев Михаил Яковлевич (1892-1942) — русский писатель-фантаст. Арестован в 1941, погиб в тюрьме.
[131] Миндлин Э. Молодой Булгаков. // Воспоминания о Михаиле Булгакове. М. 1988. С 145.
[132] Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.1988. С.265-266. Булгаковское амбивалентное отношение к «Накануне» и ее сотрудникам отражено в его дневниках за 1923 г.: Булгаков М.А. Дневники. М., «Библиотека «Огонек», 1990. C. 7–9, 11, 34. Их литературные отношения откомментированы Мариэттой Чудаковой: ук.соч. С. 261 и сл. Ср. посмертную статью А.Крюковой: М.Булгаков об А.Н.Толстом. (Заметки на полях дневников и писем современников). //А.Н. Толстой. Новые материалы и исследования. М. 1995. С.132-152.
[133] Хотя рецензии были прекрасные, ср.: «Необычайна судьба этой лучшей комедии гр. А. Н. Толстого. Написанная в 1920 году, она увидела впервые свет печатного набора в 1921 году, в роскошном сборнике, изданном в Париже и расписанном заранее (экземпляр – 150 франков!). Таким образом, русский читатель знакомится с ней лишь ныне. А между тем, уже за несколько месяцев до отчётного издания «Любовь – книга золотая» появилась в отличном французском переводе Мишель де Граммон… Её постановка в парижском театре «Вье Коломбье» вызвала восторженные отзывы столь строгих и скупых ценителей, как Альфред Бриссон, Анри Биду, Жак Бастиа, Эдмонд Сэ, Адольф Адерер. В её оценке сошлись столь противоположные люди, как модный французский драматург Альфред Савуар, скептический Нольер и… неумолимый критик лондонского Observer. Надо знать враждебность Парижа ко всему иностранному, надо вспомнить характерные особенности французской прессы, чтобы понять значение этого общерусского успеха. <…> Это не та слащавая стилизация, которой предаются французские авторы, это не слезливый русский барокко, которым грешил Юрий Беляев. Типы Толстого – живые люди, быт, а не схема, лица, а не лики. Крепкие, как крепок охватывающий язык автора, они, оставаясь в рамках своего манерного века, не перестают быть русскими, корневыми. Толстой не забывает, что его Серпуховской – современник капитана Гринёва и бригадира Ларина. В этом умении не терять России в барокко – секрет <о>чарования пьесы, секрет её сценического успеха<…>». Эльзевир. Граф Алексей Н. Толстой. «Любовь – Книга Золотая», из-во «Москва». Берлин, 1922. Литературное приложение к газете «Накануне». №1. 30 марта 1922 г.
[134] Крымов Владимир Пименович (1878-1968), бизнесмен, до революции издатель журнала «Столица и усадьба», в начале 1920-х гг. в Берлине издавал газету «Голос России».
[135] Крымов В. П. Толстой без ретуши // Мосты, 1961, №7. С. 379. Цит. по: Воронцова Г. Н. Об одной командировке Бориса Пильняка (Б. Пильняк и А. Толстой) // Борис Пильняк: опыт сегодняшнего прочтения. М., 1995. С. 119.
[136] Гуль Роман Борисович (1896-1986) Писатель, редактор, журналист. После захвата власти большевиками воевал на стороне белых. Редактировал литературное приложение к «Накануне» после отъезда Толстого. В тридцатых гг. переехал в Париж, затем эмигрировал в США.
[137] Марголин Юлий Борисович (1900-1971) — писатель, журналист. После первой мировой войны жил в Лодзи. В 1925 году окончил Берлинский Университет со званием д-ра философии. Был активен в сионистском движении, считал себя сторонником Вл. Жаботинского. В 1939 г эмигрировал в Израиль. В 1940 посещал родителей в Пинске, был арестован, когда город оккупировали советские войска, и провел шесть лет, 1939-1946 гг. – в «стране зэ-ка» – в тюрьмах, концлагерях, ссылке, затем репатриировался в Польшу и вернулся в Израиль..
В 1950 году Марголин выступил в качестве главного свидетеля на парижском процессе Давида Руссэ против коммунистического журнала «Леттр Франсэз». Этот процесс раскрыл истинную природу советских «трудовых лагерей».
В 1951 году он добился на Индийском Конгрессе деятелей культуры в Бомбее принятия резолюции против системы концлагерей вообще и в СССР в частности.
В 1952 году опубликована книга Ю. Б. Марголина «Путешествие в страну Зэ-Ка» (Издательство им. Чехова, США), которая принесла автору известность далеко за пределами Израиля.
[138] Андреев Вадим Леонидович (1902—1976), сын Леонида Андреева. эмигрантский поэт и прозаик. Жил в Софии, Берлине, Париже, затем в США.
[139] Анна Семеновна Присманова (Анна Симоновна Присман, 1892-1960) — русская эмигрантская поэтесса. Жила в Праге и Париже. Была женой А. Гингера.
[140] Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891-1966) — русский поэт. В 1920 эмигрировал в Германию, в 1939 переехал во Францию (в годы войны — в движении Сопротивления); позднее жил в США.
[141] Георгий Давыдович Венус (1898-1939) — русский писатель, белый офицер, сменовеховец, в Берлине — сотрудник «Литературного приложения», вернулся в Россию, репрессирован. Толстой пытался облегчить его участь.
[142] Тасин Н. Последние новости, 17 янв. 1924, С. 2. Тасин был сотрудником «Киевской мысли», потом, в Берлине, опубликовал научно-фантастический роман.
[143] Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1993. С.292-293.
[144] Там же. С. 293-294.
[145] Веретеныш, №1, 1927, Берлин. Ред. Глеб Алексеев.
[146] Алексеев Г. Живые встречи. Сполохи, №8. Июнь 1922. С. 29–30.
[147] Тэффи. Печальное вино. С.532.
[148] В.Ходасевич. Андрей Белый.// Собрание сочинений в четырех томах. М. «Согласие», 1997. С. 64.
[149] Муратов Павел Павлович (1881 — 1950) — искусствовед, писатель.
[150] Борис Петрович Вышеславцев (1877-1954) — русский философ, эмигрант.
[151] Н.Берберова. Курсив мой. Т.1. Нью-Иорк, 1983,С.186-187.
[152] Переписка А.Н.Толстого, С. 345.
[153] Чтение «Данилевского» ошибочно. Даниловский Густав (1872 — 1927) — видный польский поэт и писатель, автор множества популярных в свое время произведений . Изданный в двадцатые годы на русском языке, роман «Мария Магдалина» (1912) имел шумный читательский успех, но из-за немыслимой тогда откровенности в любовных сценах снискал довольно сомнительную репутацию.
[154] 14 июля 1922 г. Архив А.М.Горького. Т.14. С.399.

